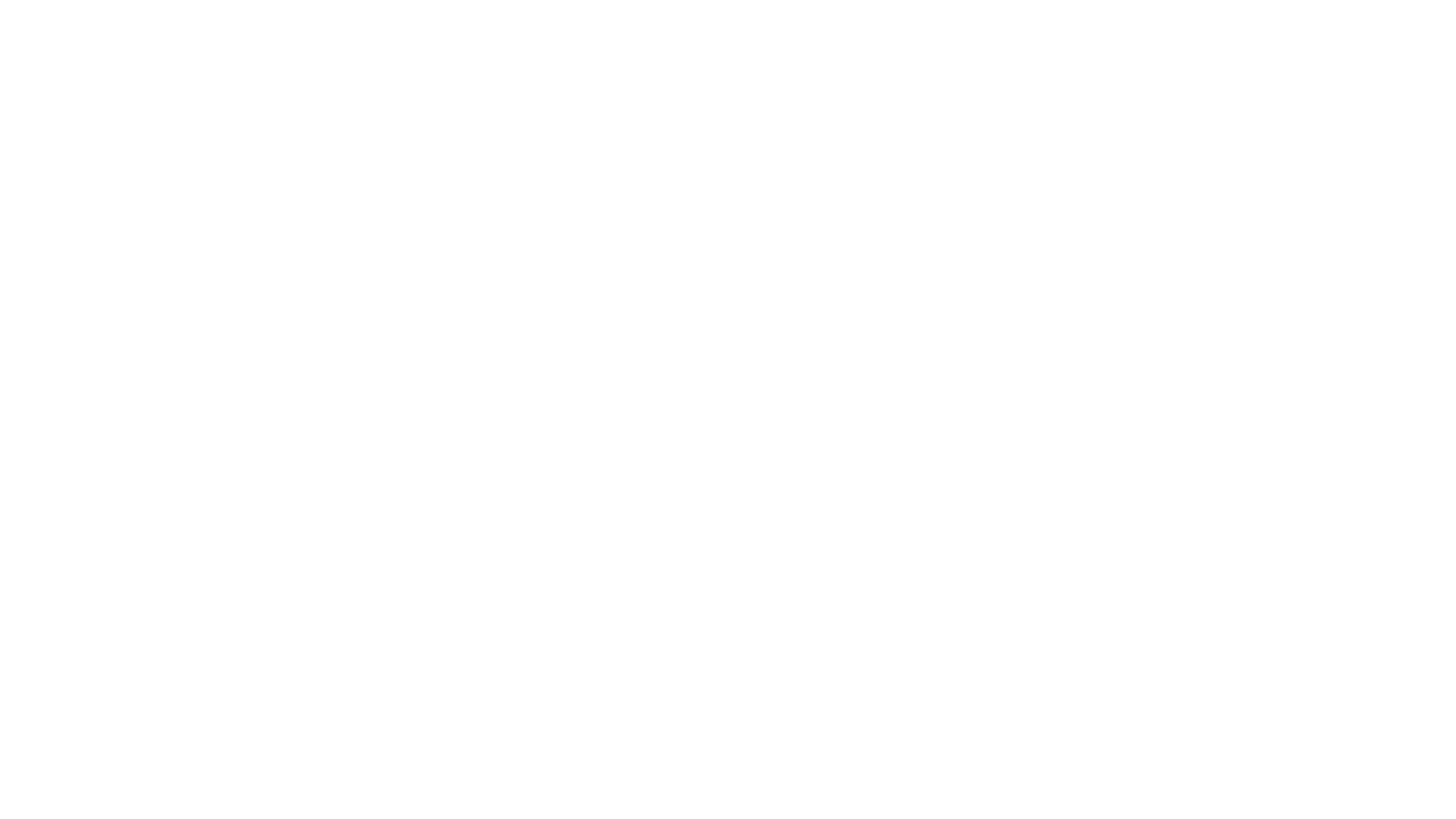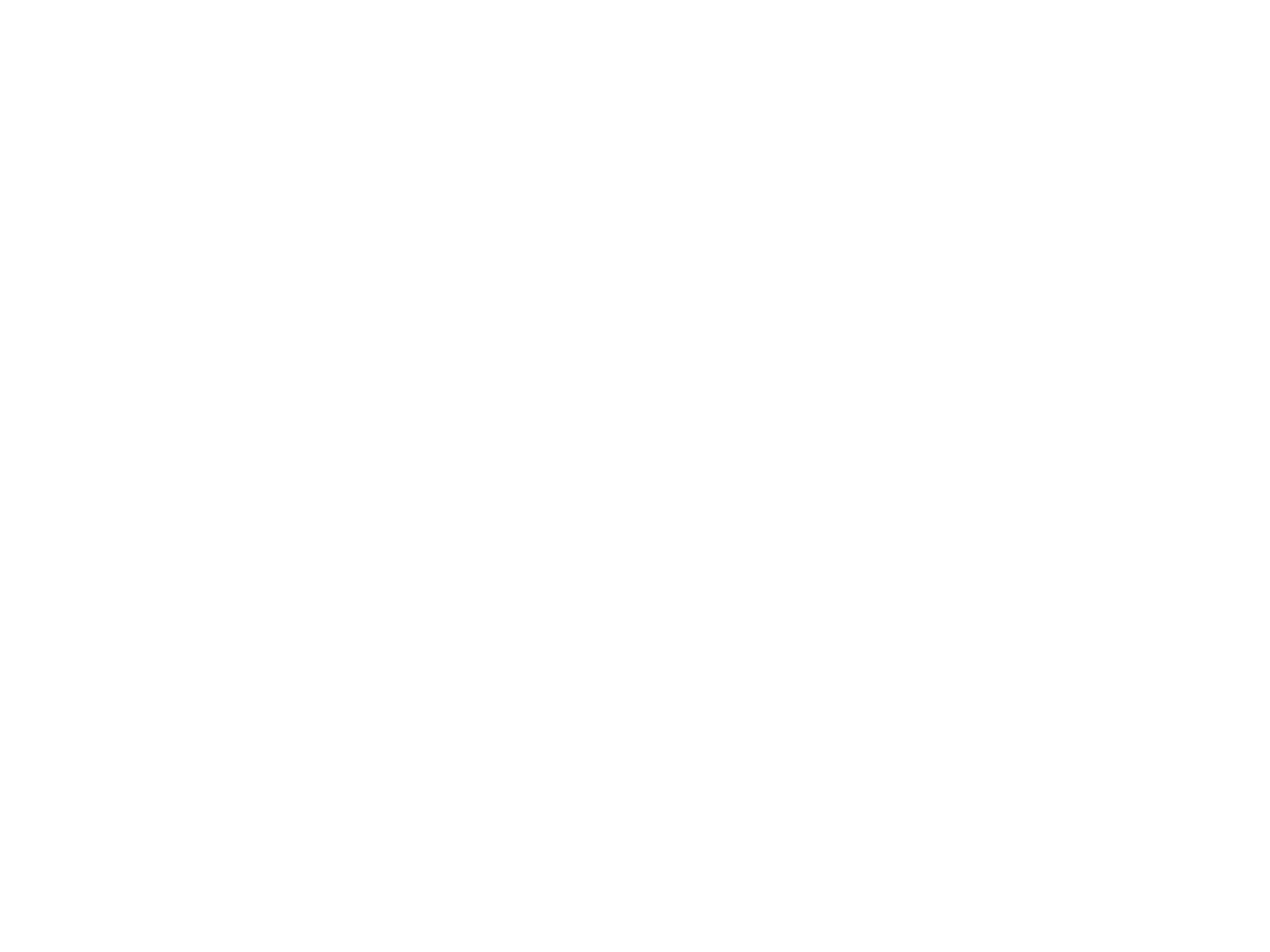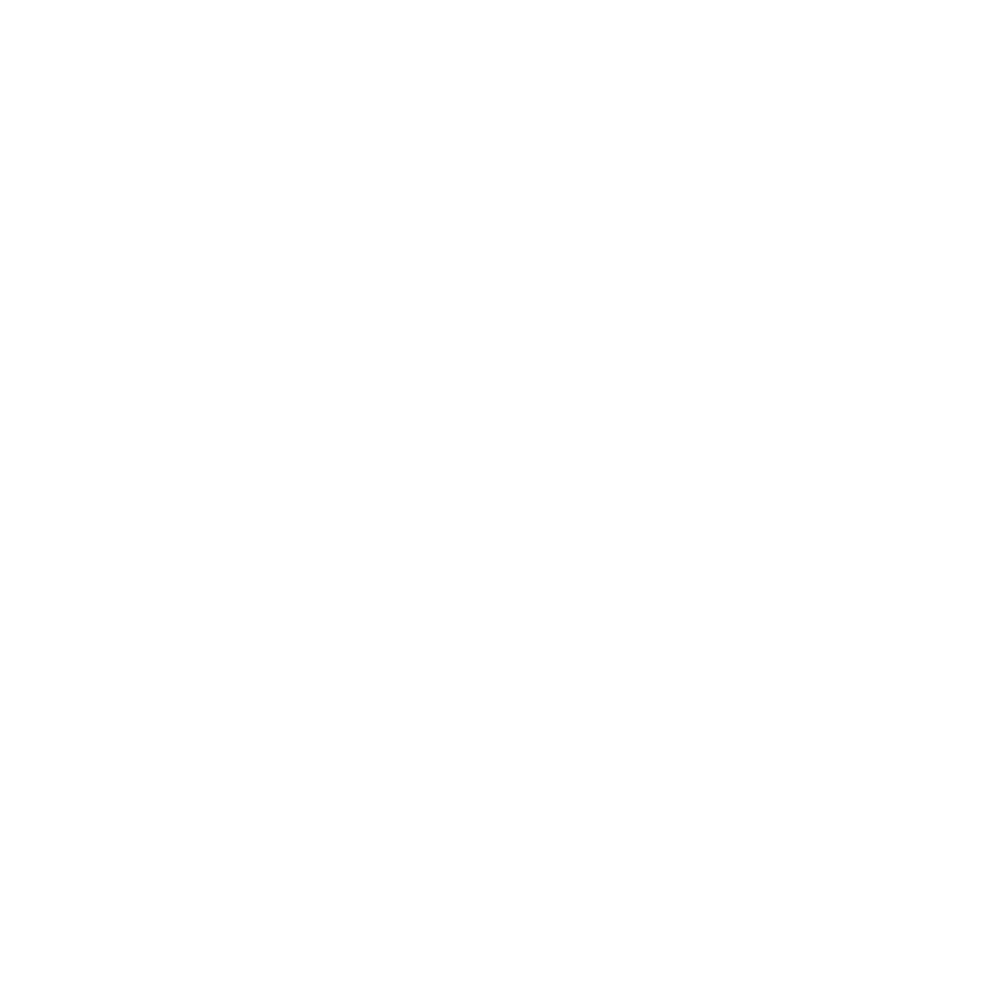ШЛЯХ МОЖА БЫЦЬ ІНШЫМ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЗЕЛЁНОГО ПОРТАЛА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЗЕЛЁНОГО ПОРТАЛА
Глава 6. Голоса вчерашних детей
Техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС сейчас — это не земли, которые возвращают в сельское хозяйство, и не замшелые тексты газет. Это — человеческие судьбы. Несмотря на миллиарды рублей и усилия тысяч человек, забыть об аварии в состоянии только те, кто не имел к ней отношения. Все остальные будут снова и снова крутить в голове горькие воспоминания.
Деревушку Бахань сегодня не найдешь на карте Славгородского района: в конце прошлого века ее захоронили вместе с другими такими же деревнями, оказавшимися в зоне отчуждения. Выходцы из Бахани разъехались, кто куда. Уроженка Бахани Татьяна сегодня живет в Могилеве. На момент аварии на Чернобыльской АЭС ей было всего пять с половиной лет. Но и Татьяна, и ее родные, хорошо помнят события апреля 1986 года, и то, что последовало за ними. Помнят, потому что не могут забыть. Зеленый портал приводит рассказ Татьяны от первого лица. Автор: Зелёный портал |
БАХАНЬ
Бахань - это родина моего отца и предков по отцовой линии. До чернобыльской катастрофы она считалась большой деревней, была центром одноименного сельсовета, на территории которого население составляло более тысячи двухсот человек.
Разветвленная, на несколько улиц… В Бахани даже существовали свои «микрорайоны» - Запасека, Чкаловка... В свое время была в Бахани даже целая улица, где жили ремесленники. Как и почему они туда попали, неизвестно, но для простой деревни их навыки были весьма высокого уровня: эти люди умели прекрасно кроить и шить одежду, делали обувь под заказ. Была в Бахани и своя церковь. А из местных достопримечательностей – река Бобровка. Отец мой рассказывает, что вдоль реки некогда рос огромный дикий малинник – весь берег укрывал кустарник с красными сладкими ягодами, и местные жители каждый год ходили туда за малиной. Сама же Бобровка до мелиорации была богата на рыбные места, особенно много водилось в речке вьюнов. Баханцы делали из лозы ловушки-кошики, ставили их в воду и потом собирали улов. Вьюнов было так много, что их не только ели сами, но и скармливали домашней птице.
Когда родители поженились, они построили в Бахани дом, толокой им помогала вся родня. Моя мама неместная, родом из Поляниновичей, что на Быховщине. На чужой стороне всегда непросто, но вот что удивительно: на новом месте мама сразу обратила внимание, какие отзывчивые и добропорядочные люди живут в Бахани. Например, одинокая соседка Юлия Климовна приходила к ней каждый день и абсолютно бескорыстно помогала справляться с домашними делами. Это было в порядке вещей - взаимовыручка, взаимопомощь и поддержка. Отличались баханцы и добрым нравом, любили пошутить, много было людей с острым юмором и при этом открытых, без камня за пазухой. Мама моя их очень полюбила. Ей нравилось там жить, хоть место для нее было неродное. И маму баханцы приняли, как свою. С добротой и уважением.
Когда произошла авария в Чернобыле, мы находились в соседней с Баханью деревне Большая Зимница, где родителям выделили служебное жилье. Высокие дозы радиации впоследствии фиксировали в обеих деревнях, однако Зимница существует до сих пор, а вот Бахани больше нет…
26 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА
Я помню день взрыва на Чернобыльской АЭС, потому что тогда стояла очень теплая, даже жаркая погода. Какие развлечения у детей в деревне? Свежий воздух и игры допоздна. С моей подругой Оксаной - родственницей, что жила по соседству – мы целыми сутками гуляли на улице. Память сохранила этот день еще и потому, что мы нашли себе необычное и совсем не детское занятие: на дворе обнаружили ведро с разведенной побелкой и кисти, сообразили, что взрослые собираются красить крыльцо, решили помочь и взялись за дело. Было весело: крыльцо на жаре мы белили до самого вечера.
ЧЕРНАЯ БЕДА С НЕБА
Необычная, странная, нехорошая туча дошла до нас где-то спустя сутки после взрыва. Теплые выходные продолжались, и ничто не предвещало ни ливня, ни грозы. Черное облако появилось на горизонте внезапно. Я тот момент помню смутно. В памяти осталось только ощущение приятной погоды, беззаботности и комфорта, когда хочется днями играть на улице после долгой зимы и наслаждаться теплом. А вот мама помнит – туча показалось ей слишком странной и какой-то пугающей. Она принесла с собой сильнейший ливень: вместе с обрушившимися потоками воды выпал и град. Градины были огромные, необычной продолговатой формы…
Когда пошли радиоактивные осадки, мы с мамой были в Зимнице. Наши родственники находились в Бахани. Пошел сильный дождь, выпал необычайно крупный град. Подростки, друзья моего брата, из любопытства разгрызали и проглатывали эти странные продолговатые ледяши, по размеру напоминающие ягоды винограда… Потом, уже летом, вместе с друзьями мой брат ходил купаться в Бобровке. Из этой же речки домой приносили пойманную удочками рыбу.
Черная туча прошла и над Славгородом. Кто-то из знакомых после рассказывал маме, как был в городе в тот день и видел, что вместе с радиоактивным облаком летели в небе военные самолеты. И когда пошел дождь, было ощущение, что сверху через громкоговорители пилоты что-то объявляли людям или пытались предупредить, но из-за шума ливня и рева двигателей практически ничего не было слышно…
Какую опасность несли эти осадки, мы начали понимать только спустя время.
Разветвленная, на несколько улиц… В Бахани даже существовали свои «микрорайоны» - Запасека, Чкаловка... В свое время была в Бахани даже целая улица, где жили ремесленники. Как и почему они туда попали, неизвестно, но для простой деревни их навыки были весьма высокого уровня: эти люди умели прекрасно кроить и шить одежду, делали обувь под заказ. Была в Бахани и своя церковь. А из местных достопримечательностей – река Бобровка. Отец мой рассказывает, что вдоль реки некогда рос огромный дикий малинник – весь берег укрывал кустарник с красными сладкими ягодами, и местные жители каждый год ходили туда за малиной. Сама же Бобровка до мелиорации была богата на рыбные места, особенно много водилось в речке вьюнов. Баханцы делали из лозы ловушки-кошики, ставили их в воду и потом собирали улов. Вьюнов было так много, что их не только ели сами, но и скармливали домашней птице.
Когда родители поженились, они построили в Бахани дом, толокой им помогала вся родня. Моя мама неместная, родом из Поляниновичей, что на Быховщине. На чужой стороне всегда непросто, но вот что удивительно: на новом месте мама сразу обратила внимание, какие отзывчивые и добропорядочные люди живут в Бахани. Например, одинокая соседка Юлия Климовна приходила к ней каждый день и абсолютно бескорыстно помогала справляться с домашними делами. Это было в порядке вещей - взаимовыручка, взаимопомощь и поддержка. Отличались баханцы и добрым нравом, любили пошутить, много было людей с острым юмором и при этом открытых, без камня за пазухой. Мама моя их очень полюбила. Ей нравилось там жить, хоть место для нее было неродное. И маму баханцы приняли, как свою. С добротой и уважением.
Когда произошла авария в Чернобыле, мы находились в соседней с Баханью деревне Большая Зимница, где родителям выделили служебное жилье. Высокие дозы радиации впоследствии фиксировали в обеих деревнях, однако Зимница существует до сих пор, а вот Бахани больше нет…
26 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА
Я помню день взрыва на Чернобыльской АЭС, потому что тогда стояла очень теплая, даже жаркая погода. Какие развлечения у детей в деревне? Свежий воздух и игры допоздна. С моей подругой Оксаной - родственницей, что жила по соседству – мы целыми сутками гуляли на улице. Память сохранила этот день еще и потому, что мы нашли себе необычное и совсем не детское занятие: на дворе обнаружили ведро с разведенной побелкой и кисти, сообразили, что взрослые собираются красить крыльцо, решили помочь и взялись за дело. Было весело: крыльцо на жаре мы белили до самого вечера.
ЧЕРНАЯ БЕДА С НЕБА
Необычная, странная, нехорошая туча дошла до нас где-то спустя сутки после взрыва. Теплые выходные продолжались, и ничто не предвещало ни ливня, ни грозы. Черное облако появилось на горизонте внезапно. Я тот момент помню смутно. В памяти осталось только ощущение приятной погоды, беззаботности и комфорта, когда хочется днями играть на улице после долгой зимы и наслаждаться теплом. А вот мама помнит – туча показалось ей слишком странной и какой-то пугающей. Она принесла с собой сильнейший ливень: вместе с обрушившимися потоками воды выпал и град. Градины были огромные, необычной продолговатой формы…
Когда пошли радиоактивные осадки, мы с мамой были в Зимнице. Наши родственники находились в Бахани. Пошел сильный дождь, выпал необычайно крупный град. Подростки, друзья моего брата, из любопытства разгрызали и проглатывали эти странные продолговатые ледяши, по размеру напоминающие ягоды винограда… Потом, уже летом, вместе с друзьями мой брат ходил купаться в Бобровке. Из этой же речки домой приносили пойманную удочками рыбу.
Черная туча прошла и над Славгородом. Кто-то из знакомых после рассказывал маме, как был в городе в тот день и видел, что вместе с радиоактивным облаком летели в небе военные самолеты. И когда пошел дождь, было ощущение, что сверху через громкоговорители пилоты что-то объявляли людям или пытались предупредить, но из-за шума ливня и рева двигателей практически ничего не было слышно…
Какую опасность несли эти осадки, мы начали понимать только спустя время.
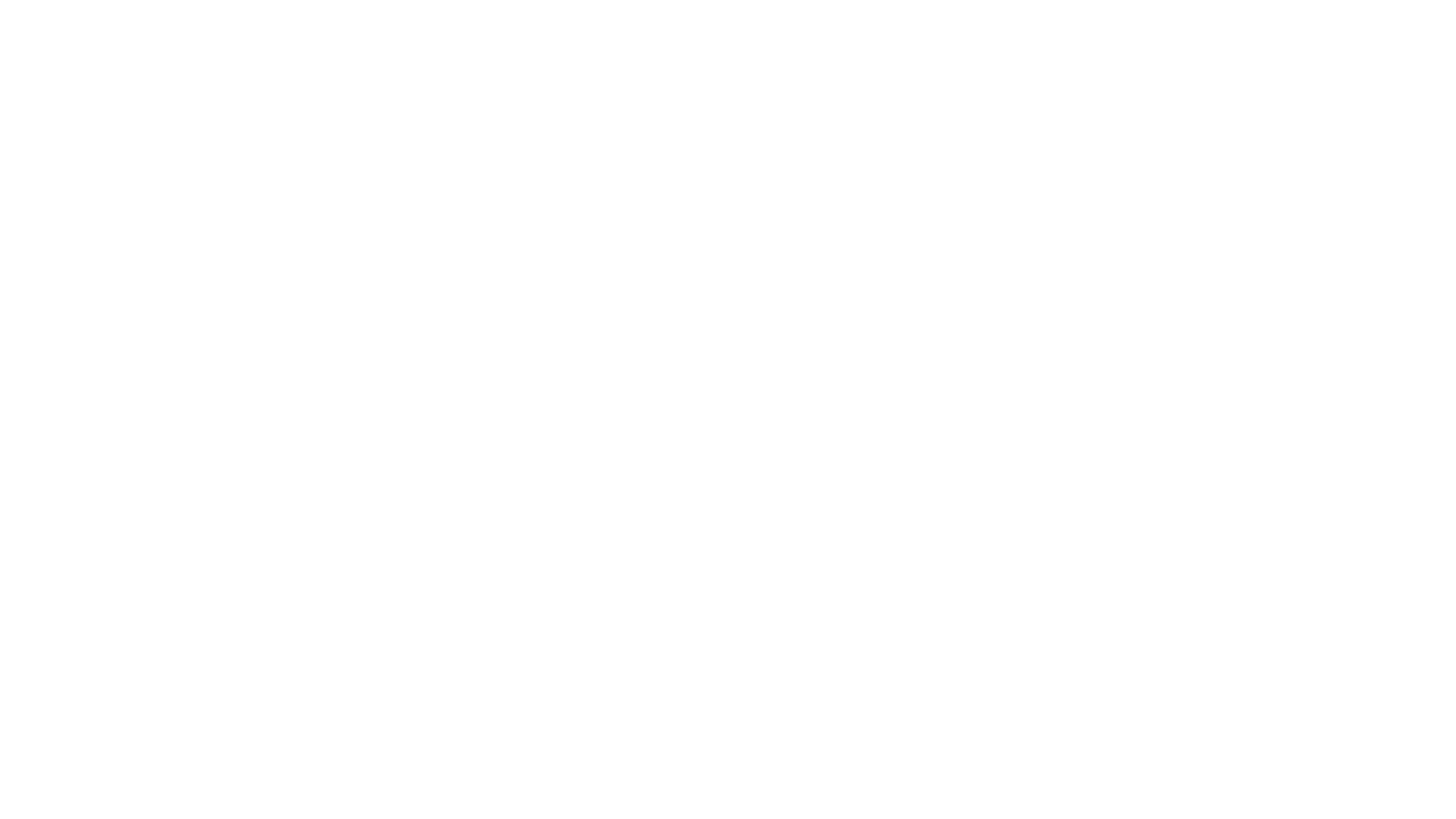
ПЕРВОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ ВЗРЫВА
Первая отрывочная информация о том, что произошло что-то плохое, стала поступать по «сарафанному радио» от знакомых, друзей и родственников. Заговорили рабочие могилевского «Лавсана», которые обратили внимание, что оборудование на предприятии ведет себя как-то странно и необычно. Возникли обоснованные подозрения о повышении радиационного фона. Кто-то ловил трансляции зарубежных радиостанций, где рассказывали о катастрофе на Чернобыльской АЭС.
После пришел страх. Он вливался постепенно: в разговорах взрослых появились незнакомые слова «радиация», «микрорентгены», в беседах отца и матери на кухне сквозила тревога, и она невольно передавалась мне. Я понимала, что родители беспокоятся, и от этого становилось еще страшнее. Никто не знал последствий облучения и воздействия радиации, не понимал, что такое стронций и радиоактивный цезий, чем чревато нахождение на территории, где пролились осадки из радиоактивной тучи. Официальных заявлений не было. При этом жизнь шла своим ходом.
СЕМЬЯ
Мой отец работал тогда в сельском хозяйстве. Посевная была в разгаре. И никаких коррективов события Чернобыля в нее не привнесли: механизаторы по-прежнему выезжали в поля, ни защитных масок, ни респираторов никому из них не выдавали. Коррекцию площадей в связи с выпадением радиоактивных осадков, чтобы сеять в относительно чистой зоне, тоже не проводили. Все прошло по плану: посеяли урожай, а потом и собирали его.
Моя сестра тогда работала на заводе «Зенит» в Могилеве. Осенью 86-го их коллективом командировали на уборку урожая в Краснопольский район - на те самые территории, которые сегодня также находятся в зоне отчуждения. Работала она на комбайне с напарницей: было сухо, тепло, без дождей, и пыль стояла столбом, ею и дышали. Ни о какой опасности никто не предупреждал…
На работы по уборке урожая на загрязненных территориях сестра ездила и на следующий год. На предприятии после обещали предоставить какие-то льготы и документы, подтверждающие, что люди были в грязной зоне, однако льгот моя сестра так и не дождалась…
Отец вспоминает, что уже после 86 года в сельском хозяйстве стали активно применять известкование почв, чтобы как-то снизить в растениях накопления радиоактивных веществ. И это, пожалуй, единственное, что делали, дабы минимизировать последствия аварии. А вот схему засевания полей никак не поменяли: они были загрязнены, но там продолжали сажать и зерновые, и овощи, и корнеплоды, и пастбища там находились.
Грунтовые дороги, на которые пролились радиоактивные осадки, не асфальтировали. Хотя сделать это было необходимо, чтобы ядовитая пыль не разлеталась дальше по району. Все было настолько не организованно, что просто диву даешься. Людям не объясняли опасность воздействия радиации на человека, не говорили всей правды, и многие, как водится и сейчас, привозили внуков на лето к родным. Вот и я постоянно приезжала в родную Бахань из Зимницы к бабушке на каникулы. Вместе с моей подружкой Оксаной мы продолжали гулять на улице, играли в догонялки, соревновались, кто поднимет самый большой столб пыли на тех самых грунтовках… Босиком… Беззаботно…
У бабушки были куры, кролики. И корова была. И все мы, разумеется, пили молоко от этой коровы, хоть и существовала общая рекомендация – не употреблять свою продукцию. Но кто же ее соблюдал… Моя бабуля заявила: «Сваё малачко ёсць сваё малачко. Я не буду с магазина браць…». Она вообще отказывалась верить в происходящее, а на разговоры о радиации говорила: «А мае ж вы дзетачкi, яе ж не вiдна, той радзiяцыi, можа яе i няма… Мы во жывем тут, нам харашо». Ей сложно было понять, как это обжитое, близкое сердцу, родное место, где все согревало и наполняло, вдруг стало опасным и вредным. Если бы ей и всем остальным объяснили, что такое стронций, как он действует на организм, что такое радиоактивный йод и почему он особенно опасен для детей, отношение к этой проблеме было бы наверняка другое. А поскольку централизованно информация не доносилась, некоторые люди продолжали жить, как прежде. Моя бабушка была в их числе.
По воспоминаниям же мамы, со временем в районе стали открывать лаборатории с оборудованием для контроля радиационной продукции в Славгороде. Именно тогда матери выдали дозиметр. Какая организация, она точно назвать не может, предполагаю, что санитарная служба. Мама запомнила маркировку дозиметра – СРП-68. В интернете я прочла, что так маркировали геологоразведочные приборы для измерения гамма-излучений в помещении и на открытой местности. Данные с этого дозиметра мама никуда не передавала, и для чего его выдали и по сей день не очень понятно. Как шутит мама, «для потехи»: «Замеряйте сами себе фон и успокаивайтесь: вот тут, мол, меньше, тут и сидите, а там больше – туда не ходите». По тем замерам только в Бахани в доме бабушки, в печи, уровень радиации составлял 700 микрорентген, а в Большой Зимнице в детском саду, куда я тоже успела походить перед самой школой, - 1 рентген. Столько дозиметр показывал в местах, куда стекала вода с крыши. От одной мысли об этом поджилки начинают трястись. Как можно было оставлять людей на такой территории и ничего не предпринимать…
При этом первые ученые приехали на территорию юго-востока Могилевской области, пострадавшей от взрыва на ЧАЭС, уже в мае 86-го. Работали, проводили замеры, собирали информацию. Еще тогда было объявлено, что Бахань нужно отселять. Но по каким-то причинам деревня существовала вплоть до начала 90 годов. Отдельные семьи просто сами уезжали – видимо, у кого-то срабатывал инстинкт самосохранения и интуиция. Но большинство оставалось: держались за рабочие места и свои дома. Тогда еще не было компенсаций, жилье не предоставляли, не было социальной поддержки людей. Она появилась лишь спустя много лет. Массовое же отселение Бахани началось в начале 90-ых. Наши земляки разъехались кто в Минск, кто, как я, в Могилев, многие осели в Глусском, Бобруйском, Шкловском районах и на Дрибинщине.
После пришел страх. Он вливался постепенно: в разговорах взрослых появились незнакомые слова «радиация», «микрорентгены», в беседах отца и матери на кухне сквозила тревога, и она невольно передавалась мне. Я понимала, что родители беспокоятся, и от этого становилось еще страшнее. Никто не знал последствий облучения и воздействия радиации, не понимал, что такое стронций и радиоактивный цезий, чем чревато нахождение на территории, где пролились осадки из радиоактивной тучи. Официальных заявлений не было. При этом жизнь шла своим ходом.
СЕМЬЯ
Мой отец работал тогда в сельском хозяйстве. Посевная была в разгаре. И никаких коррективов события Чернобыля в нее не привнесли: механизаторы по-прежнему выезжали в поля, ни защитных масок, ни респираторов никому из них не выдавали. Коррекцию площадей в связи с выпадением радиоактивных осадков, чтобы сеять в относительно чистой зоне, тоже не проводили. Все прошло по плану: посеяли урожай, а потом и собирали его.
Моя сестра тогда работала на заводе «Зенит» в Могилеве. Осенью 86-го их коллективом командировали на уборку урожая в Краснопольский район - на те самые территории, которые сегодня также находятся в зоне отчуждения. Работала она на комбайне с напарницей: было сухо, тепло, без дождей, и пыль стояла столбом, ею и дышали. Ни о какой опасности никто не предупреждал…
На работы по уборке урожая на загрязненных территориях сестра ездила и на следующий год. На предприятии после обещали предоставить какие-то льготы и документы, подтверждающие, что люди были в грязной зоне, однако льгот моя сестра так и не дождалась…
Отец вспоминает, что уже после 86 года в сельском хозяйстве стали активно применять известкование почв, чтобы как-то снизить в растениях накопления радиоактивных веществ. И это, пожалуй, единственное, что делали, дабы минимизировать последствия аварии. А вот схему засевания полей никак не поменяли: они были загрязнены, но там продолжали сажать и зерновые, и овощи, и корнеплоды, и пастбища там находились.
Грунтовые дороги, на которые пролились радиоактивные осадки, не асфальтировали. Хотя сделать это было необходимо, чтобы ядовитая пыль не разлеталась дальше по району. Все было настолько не организованно, что просто диву даешься. Людям не объясняли опасность воздействия радиации на человека, не говорили всей правды, и многие, как водится и сейчас, привозили внуков на лето к родным. Вот и я постоянно приезжала в родную Бахань из Зимницы к бабушке на каникулы. Вместе с моей подружкой Оксаной мы продолжали гулять на улице, играли в догонялки, соревновались, кто поднимет самый большой столб пыли на тех самых грунтовках… Босиком… Беззаботно…
У бабушки были куры, кролики. И корова была. И все мы, разумеется, пили молоко от этой коровы, хоть и существовала общая рекомендация – не употреблять свою продукцию. Но кто же ее соблюдал… Моя бабуля заявила: «Сваё малачко ёсць сваё малачко. Я не буду с магазина браць…». Она вообще отказывалась верить в происходящее, а на разговоры о радиации говорила: «А мае ж вы дзетачкi, яе ж не вiдна, той радзiяцыi, можа яе i няма… Мы во жывем тут, нам харашо». Ей сложно было понять, как это обжитое, близкое сердцу, родное место, где все согревало и наполняло, вдруг стало опасным и вредным. Если бы ей и всем остальным объяснили, что такое стронций, как он действует на организм, что такое радиоактивный йод и почему он особенно опасен для детей, отношение к этой проблеме было бы наверняка другое. А поскольку централизованно информация не доносилась, некоторые люди продолжали жить, как прежде. Моя бабушка была в их числе.
По воспоминаниям же мамы, со временем в районе стали открывать лаборатории с оборудованием для контроля радиационной продукции в Славгороде. Именно тогда матери выдали дозиметр. Какая организация, она точно назвать не может, предполагаю, что санитарная служба. Мама запомнила маркировку дозиметра – СРП-68. В интернете я прочла, что так маркировали геологоразведочные приборы для измерения гамма-излучений в помещении и на открытой местности. Данные с этого дозиметра мама никуда не передавала, и для чего его выдали и по сей день не очень понятно. Как шутит мама, «для потехи»: «Замеряйте сами себе фон и успокаивайтесь: вот тут, мол, меньше, тут и сидите, а там больше – туда не ходите». По тем замерам только в Бахани в доме бабушки, в печи, уровень радиации составлял 700 микрорентген, а в Большой Зимнице в детском саду, куда я тоже успела походить перед самой школой, - 1 рентген. Столько дозиметр показывал в местах, куда стекала вода с крыши. От одной мысли об этом поджилки начинают трястись. Как можно было оставлять людей на такой территории и ничего не предпринимать…
При этом первые ученые приехали на территорию юго-востока Могилевской области, пострадавшей от взрыва на ЧАЭС, уже в мае 86-го. Работали, проводили замеры, собирали информацию. Еще тогда было объявлено, что Бахань нужно отселять. Но по каким-то причинам деревня существовала вплоть до начала 90 годов. Отдельные семьи просто сами уезжали – видимо, у кого-то срабатывал инстинкт самосохранения и интуиция. Но большинство оставалось: держались за рабочие места и свои дома. Тогда еще не было компенсаций, жилье не предоставляли, не было социальной поддержки людей. Она появилась лишь спустя много лет. Массовое же отселение Бахани началось в начале 90-ых. Наши земляки разъехались кто в Минск, кто, как я, в Могилев, многие осели в Глусском, Бобруйском, Шкловском районах и на Дрибинщине.
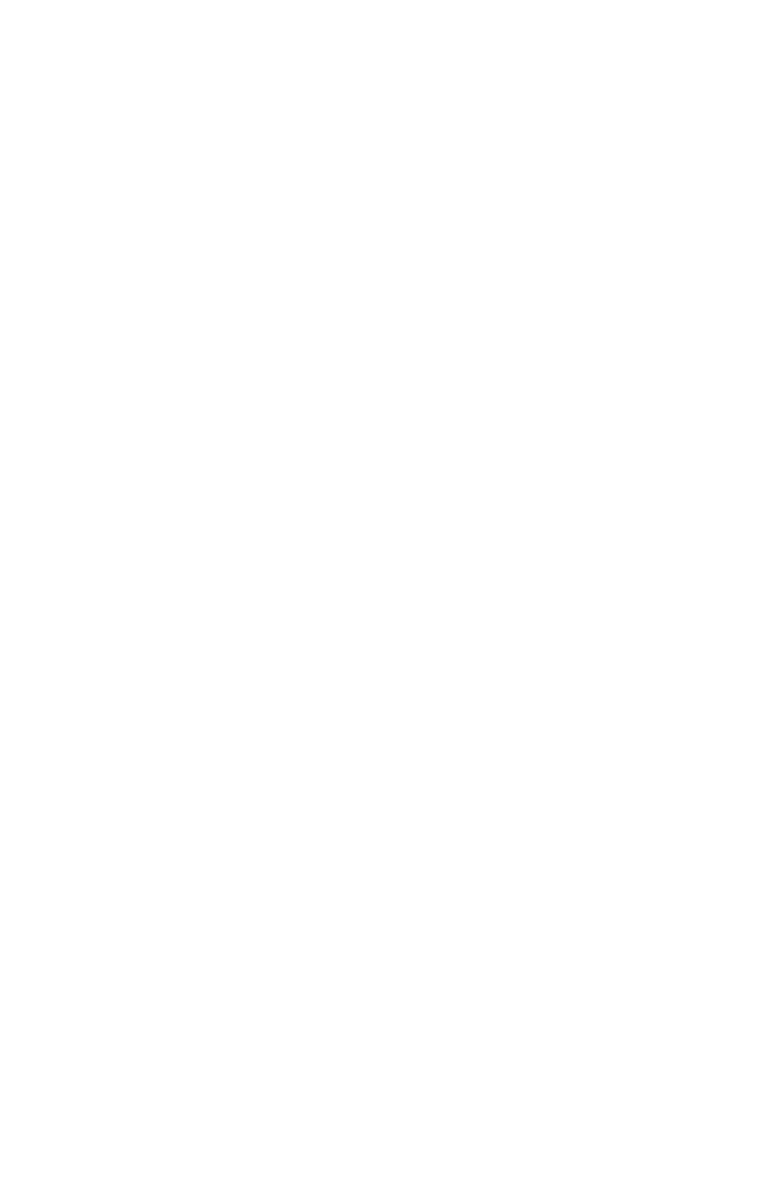
ПОСЛЕДСТВИЯ
Спустя несколько месяцев после чернобыльской аварии в ФАПе Большой Зимницы нам стали выдавать какие-то порошки. Помню, это была бумажная упаковка, а в центре - зеленый крестик. Что это было? Могу только предполагать, что йод, который к тому времени принимать было уже бесполезно - свою дозу облучения мы схватили в первые дни. Как итог – заболевание щитовидной железы, которое у меня обнаружили в 93-м году. Приехала врач в школу, потрогала шею и сказала - надо на УЗИ. Так я с родителями попала в радиологический центр в Могилеве, где подтвердили, что не все хорошо. После я перенесла операцию, которую мне провели в Минске, и теперь живу на гормонах. В свое время принять это было очень тяжело: я была подростком, болезнь свалилась, как снег на голову, я много плакала – от беспомощности и страха за будущее – ведь никто не знал, какие последствия от радиации будут для организма в дальнейшем. А они сказались и щитовидке, и на сердечно-сосудистой системе, и на памяти, и на внимании…
ПАМЯТЬ
По документам, сельсовет в Бахани был официально ликвидирован в 1995 году, а саму деревню захоронили. В память о родных местах у меня хранится необычная реликвия. Был в Бахани знаменитый баханский хор: славился своими голосами и талантливыми певуньями, выступал у себя дома и даже гастролировал, многие люди любили его, многие семьи он объединял. И были у тамошних певиц красивые концертные костюмы в национальном стиле: яркие юбки и рубашки с орнаментом и кружевами. Когда деревню массово отселяли, кто-то из местных решил воспользоваться моментом и предложил моему отцу выкупить эти костюмы за небольшую плату. Папа шанс сохранить такую реликвию не упустил, и теперь от него ко мне перешли эти прекрасные вещи. Правда, часть из них была из тонкой шерсти, и ее поела моль, но вот юбку и несколько фартуков я берегу. Как память о моей малой родине.
В само то место, где раньше стояла Бахань, мы семьей несколько раз приезжали на Радуницу. И каждый раз это было очень тяжелое чувство – мне долго приходилось настраивать себя на поездку. Видеть улицы, по которым я бегала маленькая, опустевшими и покинутыми, видеть захороненные дома и фрагментарные признаки бывшей цивилизации… Место, где прошло мое детство, стерто с лица земли, оно безвозвратно утеряно, и от этого болит душа… Я до сих пор чувствую с ним огромную связь. Чувствую, потому там мои корни, там зарыта моя пуповина, говоря народным языком. Но хотелось бы большего: прийти в отчий дом, ощутить его атмосферу, подпитаться радостными воспоминаниями…
Только в Славгородском районе по разным данным захоронено от 15 до 17 полностью отселенных деревень. А значит, пострадали тысячи семей: потеряли свой родной кров, здоровье, близких… Кто возьмет на себя за это ответственность? Я не знаю ответа на этот вопрос. Знаю только, что Чернобыль - не просто халатность, а преступление против людей, оказавшихся на этой земле под ударом радиации. Поэтому сегодня, в связи с появлением в Островце Белорусской атомной электростанции, вся моя семья хочет только одного - чтобы станцию обслуживали специалисты высочайшего уровня, а МАГАТЭ держало ее на особом контроле. Сделать это нужно, чтобы никогда больше не повторить Чернобыль. Ведь последствия таких аварий и для природы, и для людей по-настоящему трагичны.
ПАМЯТЬ
По документам, сельсовет в Бахани был официально ликвидирован в 1995 году, а саму деревню захоронили. В память о родных местах у меня хранится необычная реликвия. Был в Бахани знаменитый баханский хор: славился своими голосами и талантливыми певуньями, выступал у себя дома и даже гастролировал, многие люди любили его, многие семьи он объединял. И были у тамошних певиц красивые концертные костюмы в национальном стиле: яркие юбки и рубашки с орнаментом и кружевами. Когда деревню массово отселяли, кто-то из местных решил воспользоваться моментом и предложил моему отцу выкупить эти костюмы за небольшую плату. Папа шанс сохранить такую реликвию не упустил, и теперь от него ко мне перешли эти прекрасные вещи. Правда, часть из них была из тонкой шерсти, и ее поела моль, но вот юбку и несколько фартуков я берегу. Как память о моей малой родине.
В само то место, где раньше стояла Бахань, мы семьей несколько раз приезжали на Радуницу. И каждый раз это было очень тяжелое чувство – мне долго приходилось настраивать себя на поездку. Видеть улицы, по которым я бегала маленькая, опустевшими и покинутыми, видеть захороненные дома и фрагментарные признаки бывшей цивилизации… Место, где прошло мое детство, стерто с лица земли, оно безвозвратно утеряно, и от этого болит душа… Я до сих пор чувствую с ним огромную связь. Чувствую, потому там мои корни, там зарыта моя пуповина, говоря народным языком. Но хотелось бы большего: прийти в отчий дом, ощутить его атмосферу, подпитаться радостными воспоминаниями…
Только в Славгородском районе по разным данным захоронено от 15 до 17 полностью отселенных деревень. А значит, пострадали тысячи семей: потеряли свой родной кров, здоровье, близких… Кто возьмет на себя за это ответственность? Я не знаю ответа на этот вопрос. Знаю только, что Чернобыль - не просто халатность, а преступление против людей, оказавшихся на этой земле под ударом радиации. Поэтому сегодня, в связи с появлением в Островце Белорусской атомной электростанции, вся моя семья хочет только одного - чтобы станцию обслуживали специалисты высочайшего уровня, а МАГАТЭ держало ее на особом контроле. Сделать это нужно, чтобы никогда больше не повторить Чернобыль. Ведь последствия таких аварий и для природы, и для людей по-настоящему трагичны.
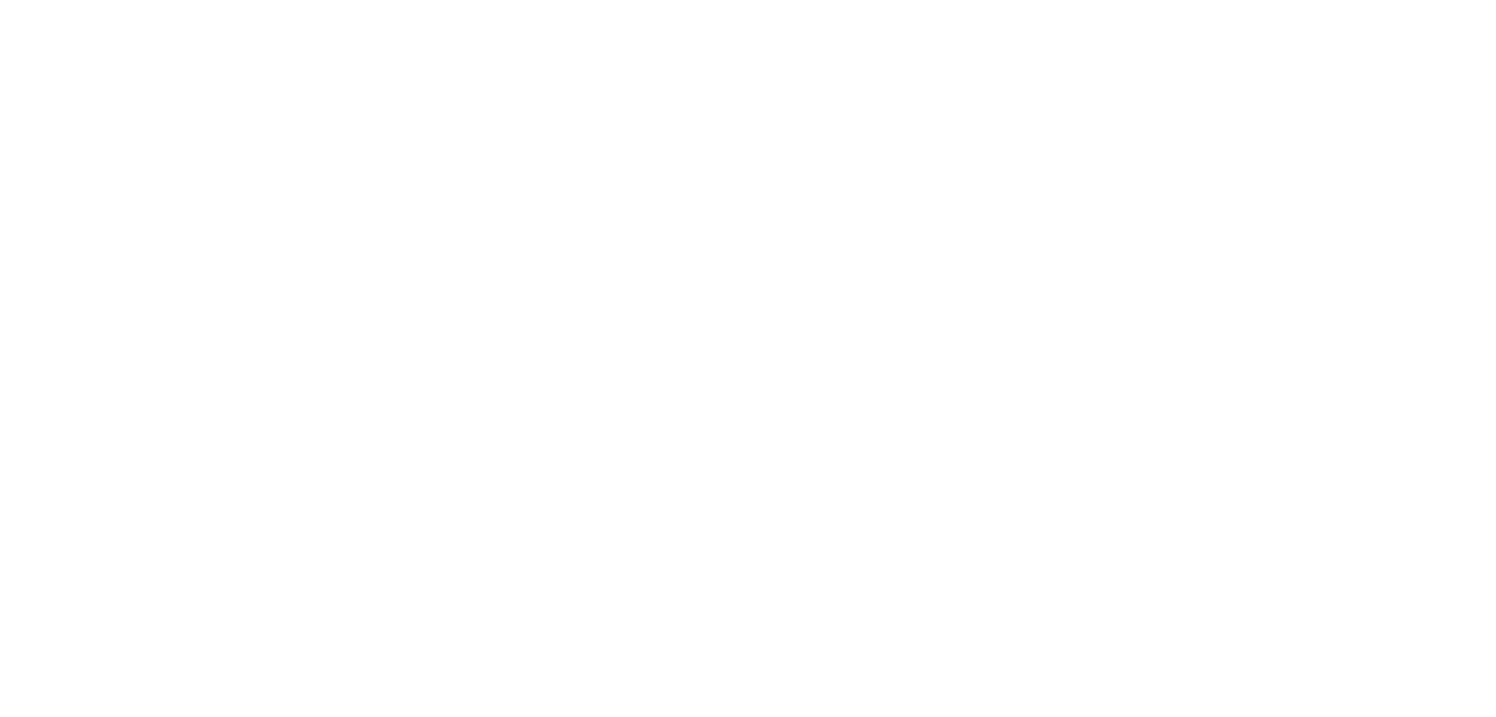
«Мама вела учёт, папа занимался утилизацией зараженных животных»: дочь ликвидаторов о жизни до и после аварии на ЧАЭС Родная Наровля в 1986 году сохранилась в памяти Елены Ребриковой (в девичестве Антоненко), тогда ещё только третьеклассницы, как красивый и уютный городок. Автор: Зелёный портал |
«Прямо через весь город протекает река Припять. Мы жили прямо у её берегов, выходишь на балкон и любуешься. Река большая и широкая, постоянно проводили на ней выходные: катались на моторных лодках, рыбачили, купались, загорали. Можно было поплыть на острова. Очень хорошо помню, как нам было весело.
Ещё в городе был красивый старинный парк, тоже часто там гуляли. Прямо напротив моей школы была конфетная фабрика «Красный Мозырянин», они шефствовали над нами, все новогодние подарки были от них, зефир в шоколаде…Наровлю всегда называли маленькой Швейцарией: огромные раскидистые ивы, прекрасные затоки Припяти. На «ракетах» катались в Пинск и Киев.
В город Припять ездили часто, он хорошо снабжался, так как товары поступали туда в расчёте на сотрудников станции. Ездили туда за колбасой, все продукты были хорошие и доступные», - с ностальгией вспоминает Елена.
Ещё в городе был красивый старинный парк, тоже часто там гуляли. Прямо напротив моей школы была конфетная фабрика «Красный Мозырянин», они шефствовали над нами, все новогодние подарки были от них, зефир в шоколаде…Наровлю всегда называли маленькой Швейцарией: огромные раскидистые ивы, прекрасные затоки Припяти. На «ракетах» катались в Пинск и Киев.
В город Припять ездили часто, он хорошо снабжался, так как товары поступали туда в расчёте на сотрудников станции. Ездили туда за колбасой, все продукты были хорошие и доступные», - с ностальгией вспоминает Елена.
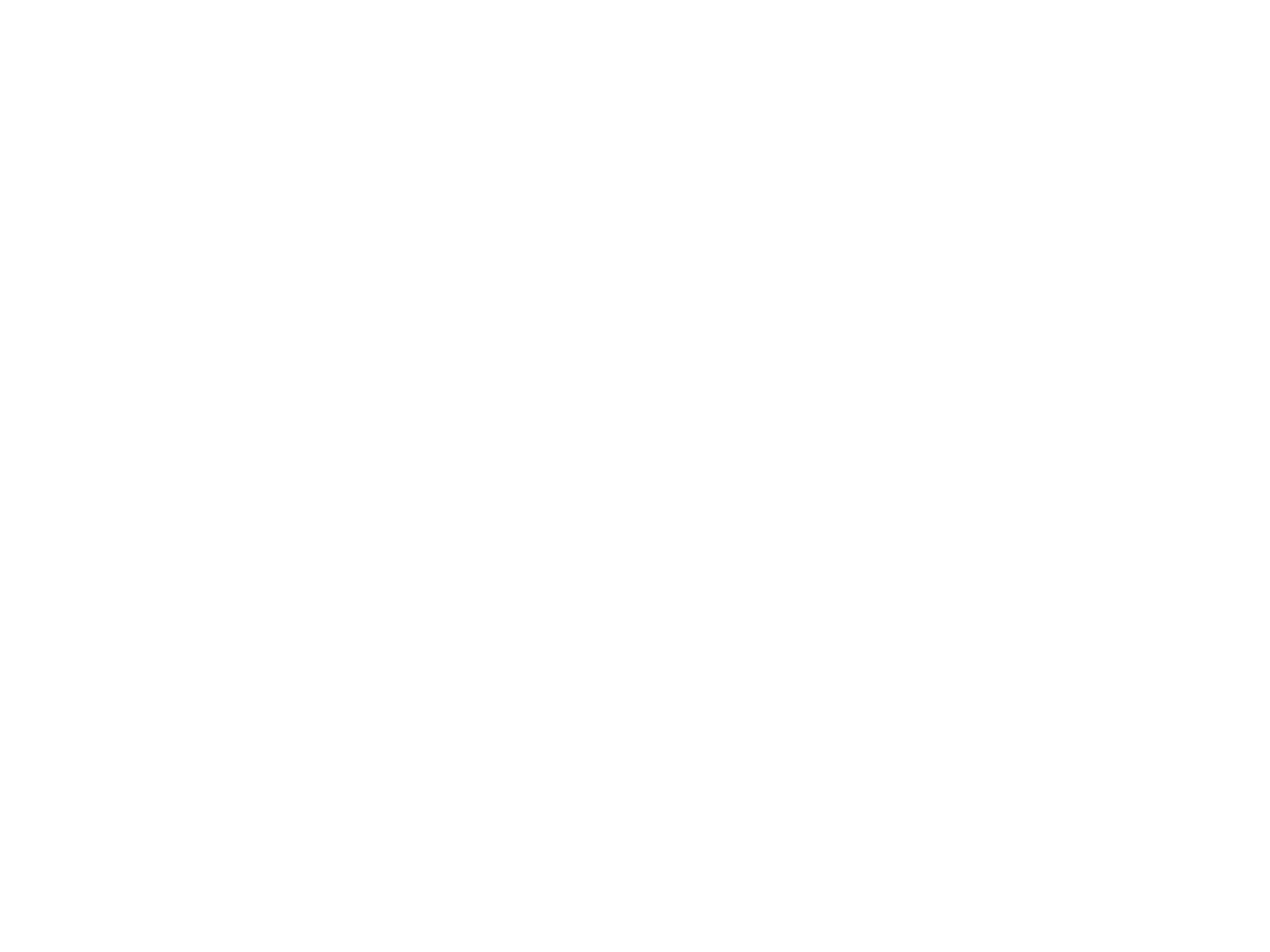
АВАРИЯ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Родители Елены работали в сельском хозяйстве, мама была работницей ветстанции, разводила племенных животных. Отец – начальник колбасного цеха, плотно сотрудничал с колхозами, привозил оттуда скот.
«И мама, и папа у меня ликвидаторы. После аварии на АЭС папа занимался утилизацией зараженных животных: организовывал могильники, вывозил скот, захоранивал. Мама тоже ездила по району, проводила учёт, тоже вечные поездки по всем заражённым деревням.
После взрыва никто ничего народу не рассказывал, когда родители узнали взяли нас в охапку и увезли. И весь 1986 год я не была дома, все лето провела в Оренбурге у маминой сестры, там был детский лагерь.
Нас хотели там оставить на весь год и перевести на учёбу, но потом родители почему-то изменили решение и отвезли нас с братом в Пинск, где жила вторая мамина сестра. Оттуда у меня очень плохие воспоминания, без родителей было сложно жить, я сильно скучала», - рассказывает Елена.
Родители Елены приняли самостоятельное решение увезти детей подальше, многие просто не понимали последствий трагедии и большинство Елениных одноклассников продолжали ходить в школу.
«Паники как таковой не было, никто не суетился. Родители решили, а мы просто не протестовали, терпели. Я помню, что мне было плохо, потому что я живу не дома, но психов не было, надо значит надо. Никогда не ныла, чтобы меня забрали обратно, я чувствовала, что родителям там тоже тяжело», - рассказывает Елена.
«И мама, и папа у меня ликвидаторы. После аварии на АЭС папа занимался утилизацией зараженных животных: организовывал могильники, вывозил скот, захоранивал. Мама тоже ездила по району, проводила учёт, тоже вечные поездки по всем заражённым деревням.
После взрыва никто ничего народу не рассказывал, когда родители узнали взяли нас в охапку и увезли. И весь 1986 год я не была дома, все лето провела в Оренбурге у маминой сестры, там был детский лагерь.
Нас хотели там оставить на весь год и перевести на учёбу, но потом родители почему-то изменили решение и отвезли нас с братом в Пинск, где жила вторая мамина сестра. Оттуда у меня очень плохие воспоминания, без родителей было сложно жить, я сильно скучала», - рассказывает Елена.
Родители Елены приняли самостоятельное решение увезти детей подальше, многие просто не понимали последствий трагедии и большинство Елениных одноклассников продолжали ходить в школу.
«Паники как таковой не было, никто не суетился. Родители решили, а мы просто не протестовали, терпели. Я помню, что мне было плохо, потому что я живу не дома, но психов не было, надо значит надо. Никогда не ныла, чтобы меня забрали обратно, я чувствовала, что родителям там тоже тяжело», - рассказывает Елена.
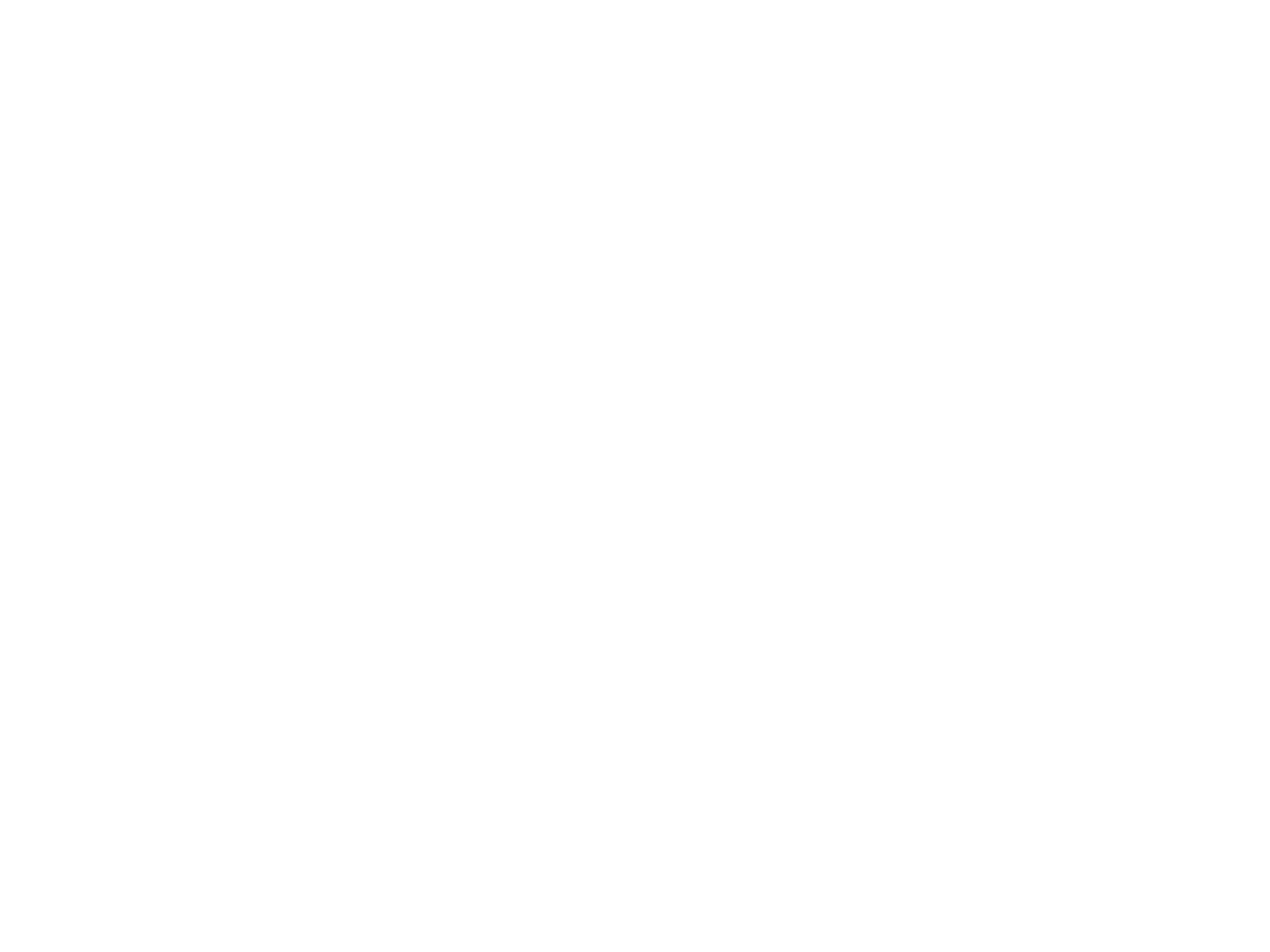
ЧЕРЕДА ЗАГРАНИЧНЫХ ПОЕЗДОК
Весь год Елена с братом прожили в однокомнатной малосемейке с тётей, её мужем и их двумя детьми. Двое взрослых и четверо детей в одной маленькой квартирке. Было тяжело. Родители периодически приезжали, но чаще чем раз в месяц им это не удавалось. Мама постоянно пыталась привезти побольше еды.
Через год родители забрали Елену и её брата обратно в Наровлю, но в школе учёба длилась только с октября по апрель, всё остальное время детей отправляли в различные детские лагеря, в том числе и за границу. Так Елена смогла побывать в США, Дании и посетить Владикавказ.
«Нас очень тепло встречали. В Данию мы летели большой группой, от фонда помощи детям Чернобыля нам выдали одинаковую одежду. Со всей Беларуси собирали детей, а там уже распределяли по разным детским лагерям. Там пробыли две недели, потом на две недели нас разделяли по разным семьям. Они к нам очень хорошо относились и баловали как только могли: покупали сладости, модную одежду, везде возили.
В Америку я летела по программе для одарённых детей с чернобыльской зоны, нас было не очень много, всего по пару штук с каждого города. Летели вначале с Минска в Москву, оттуда в Ирландию, потом в Канаду и уже, наконец-то, в Нью-Йорк» - рассказывает Елена.
Она попала в семью протестантского пастыря, который и был одним из руководителей, организовавших приезд детей. Всего в Америке Лена провела месяц, там же застала страшную новость – развалился Советский союз.
«Я как раз была в Нью-Йорке и хорошо помню, как по новостям показывали, Горбачёва в обычной одежде, рубашке и джинсах, а не в костюме. Мы очень боялись, что нас могут не пустить обратно, ведь билеты куплены в Советский Союз, а его больше нет. И мало ли, что там сейчас начнётся, а 18 августа как раз был, уже известный уже сейчас как «Августовский путч», переворот. Нам пришлось менять билеты и выехать раньше», - вспоминает Елена.
С едой тоже стало лучше, в доме часто появлялись продукты из гуманитарной помощи: ветчина, бананы, какая-то непонятная тогда Елене еда с китайскими иероглифами. Ясно было одно – помогал весь мир.
«За своё детство я налетала на самолётах столько, сколько потом не летала за всю взрослую жизнь. Даже не вспомню всех мест, где удалось побывать. Конечно, когда я была ребёнком всё это было весело и очень увлекательно. Потом, с годами, когда начинаешь осознавать, что произошло и какие это имело последствия…Как было тяжело родителям, бабушке с дедушкой, всем жителям региона. Ведь пришли и просто сказали все оставить и уехать…», - рассказывает Елена.
Через год родители забрали Елену и её брата обратно в Наровлю, но в школе учёба длилась только с октября по апрель, всё остальное время детей отправляли в различные детские лагеря, в том числе и за границу. Так Елена смогла побывать в США, Дании и посетить Владикавказ.
«Нас очень тепло встречали. В Данию мы летели большой группой, от фонда помощи детям Чернобыля нам выдали одинаковую одежду. Со всей Беларуси собирали детей, а там уже распределяли по разным детским лагерям. Там пробыли две недели, потом на две недели нас разделяли по разным семьям. Они к нам очень хорошо относились и баловали как только могли: покупали сладости, модную одежду, везде возили.
В Америку я летела по программе для одарённых детей с чернобыльской зоны, нас было не очень много, всего по пару штук с каждого города. Летели вначале с Минска в Москву, оттуда в Ирландию, потом в Канаду и уже, наконец-то, в Нью-Йорк» - рассказывает Елена.
Она попала в семью протестантского пастыря, который и был одним из руководителей, организовавших приезд детей. Всего в Америке Лена провела месяц, там же застала страшную новость – развалился Советский союз.
«Я как раз была в Нью-Йорке и хорошо помню, как по новостям показывали, Горбачёва в обычной одежде, рубашке и джинсах, а не в костюме. Мы очень боялись, что нас могут не пустить обратно, ведь билеты куплены в Советский Союз, а его больше нет. И мало ли, что там сейчас начнётся, а 18 августа как раз был, уже известный уже сейчас как «Августовский путч», переворот. Нам пришлось менять билеты и выехать раньше», - вспоминает Елена.
С едой тоже стало лучше, в доме часто появлялись продукты из гуманитарной помощи: ветчина, бананы, какая-то непонятная тогда Елене еда с китайскими иероглифами. Ясно было одно – помогал весь мир.
«За своё детство я налетала на самолётах столько, сколько потом не летала за всю взрослую жизнь. Даже не вспомню всех мест, где удалось побывать. Конечно, когда я была ребёнком всё это было весело и очень увлекательно. Потом, с годами, когда начинаешь осознавать, что произошло и какие это имело последствия…Как было тяжело родителям, бабушке с дедушкой, всем жителям региона. Ведь пришли и просто сказали все оставить и уехать…», - рассказывает Елена.
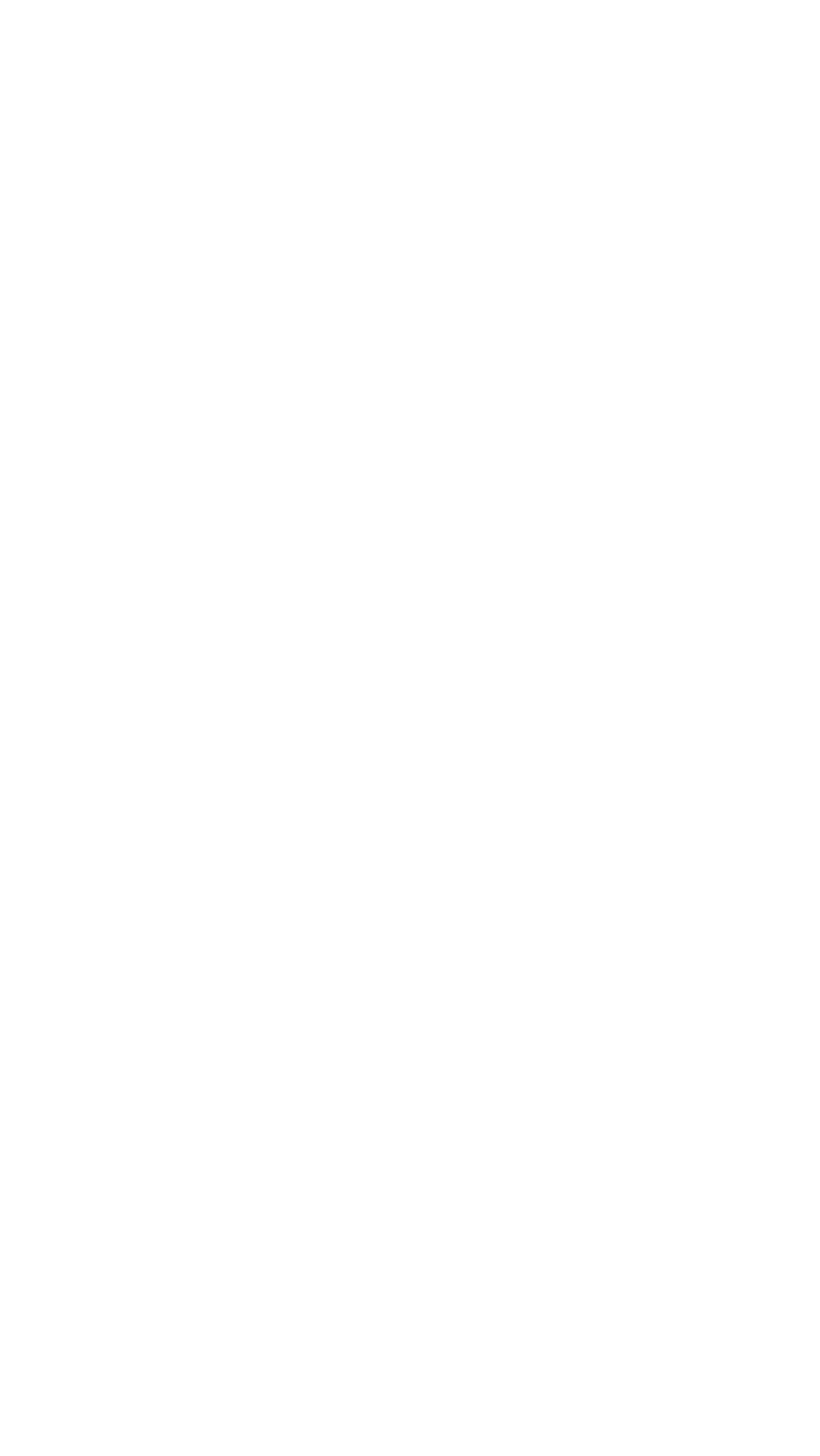
СМЕРТЬ ОТЦА И ПЕРЕЕЗД В БРЕСТ
В 1989 году отец Елены умирает от рака гортани. Ему было 38 лет. Мама остаётся с двумя детьми и решает переехать в Брест. Сама она родом со Столинского района, в Наровлю попала по распределению закончив техникум, а там вышла замуж и уже осталась. В Бресте Елена заканчивает среднюю школу и здесь же остается жить. Брат уехал учиться в Пинск.
«Сейчас, когда уже столько времени в Бресте живём, конечно, я город люблю. Но вспоминать жизнь в Наровле больно», - делится эмоциями Елена.
В Бресте семья поселилась в микрорайоне Ковалево, в то время там обосновалось довольно много переселенцев из чернобыльской зоны. Елена вспоминает, что в школе её приняли хорошо, иногда её и других детей называли «чернобыльцы», но без злого умысла. Никаких предубеждений и боязни того, что они радиоактивные и с ними опасно общаться не было. Микрорайон был новый, его только построили, поэтому большая часть детей были приезжими, кто-то из соседних городов и деревень, кто-то тоже из Зоны. Поэтому какого-то разделения на «свои» и «чужие» не было.
«В Бресте тоже довольно быстро образовались различные фонды помощи пострадавшим. Привозили еду и одежду, все то, что сейчас продаётся в секонде, у нас сумками раздавалось бесплатно. Позже даже организовалась своя мафия, вещами пытались спекулировать, лучшие перепродать, кому-то недодать», - вспоминает Елена.
Мама Елены в Бресте точно так же устроилась работать в сельском хозяйстве, стала главным зоотехником в колхозе в Гершонах, ближе к пенсии ушла работать в облисполком в Чернобыльский отдел.
Сама Елена получила юридическое образование, 22 года проработала в милиции, в прошлом году уволилась и сейчас работает управляющей торговым центром.
«Считаю, что нашу жизнь в Бресте мы вполне хорошо устроили. Мама была совсем молодая, ещё и двумя детьми, шли сложные 90-е годы, она крутилась как и все тогда. Ездила в Россию торговать трикотажем, в Польшу торговать спиртом и сигаретами. Потихоньку обжились», - рассказывает Елена.
В 1992 году семья впервые вернулась на родину, но повод был не радостный – похороны дедушки. Для этого пришлось брать специальное разрешение на посещение Зоны.
«Всего за шесть лет живой городок превратилась в дикую землю. Было очень страшно на это смотреть, я хоть и была ещё ребёнком, только 14 лет, но всё равно уже понимаешь такие вещи», - вспоминает Елена.
Дальше периодически в Наровлю приезжали, бабушка прожала довольно долго, хотя с Зоны никуда не переезжала, похоронили её три года назад в почтенном возрасте 98 лет.
«Ушла в полном уме, помнила имена всех своих правнуков, все дни рождения. До 95 лет жила одна, сама себя обслуживала, готовила, убиралась. Поэтому вообще непонятно как и на кого эта радиация действует. Бабушка же ела местную еду. Туда вообще очень многие потом вернулись, и сейчас продолжают возвращаться», - рассказывает Елена.
На фото: Елена с братом и бабушкой в Наровле
«Сейчас, когда уже столько времени в Бресте живём, конечно, я город люблю. Но вспоминать жизнь в Наровле больно», - делится эмоциями Елена.
В Бресте семья поселилась в микрорайоне Ковалево, в то время там обосновалось довольно много переселенцев из чернобыльской зоны. Елена вспоминает, что в школе её приняли хорошо, иногда её и других детей называли «чернобыльцы», но без злого умысла. Никаких предубеждений и боязни того, что они радиоактивные и с ними опасно общаться не было. Микрорайон был новый, его только построили, поэтому большая часть детей были приезжими, кто-то из соседних городов и деревень, кто-то тоже из Зоны. Поэтому какого-то разделения на «свои» и «чужие» не было.
«В Бресте тоже довольно быстро образовались различные фонды помощи пострадавшим. Привозили еду и одежду, все то, что сейчас продаётся в секонде, у нас сумками раздавалось бесплатно. Позже даже организовалась своя мафия, вещами пытались спекулировать, лучшие перепродать, кому-то недодать», - вспоминает Елена.
Мама Елены в Бресте точно так же устроилась работать в сельском хозяйстве, стала главным зоотехником в колхозе в Гершонах, ближе к пенсии ушла работать в облисполком в Чернобыльский отдел.
Сама Елена получила юридическое образование, 22 года проработала в милиции, в прошлом году уволилась и сейчас работает управляющей торговым центром.
«Считаю, что нашу жизнь в Бресте мы вполне хорошо устроили. Мама была совсем молодая, ещё и двумя детьми, шли сложные 90-е годы, она крутилась как и все тогда. Ездила в Россию торговать трикотажем, в Польшу торговать спиртом и сигаретами. Потихоньку обжились», - рассказывает Елена.
В 1992 году семья впервые вернулась на родину, но повод был не радостный – похороны дедушки. Для этого пришлось брать специальное разрешение на посещение Зоны.
«Всего за шесть лет живой городок превратилась в дикую землю. Было очень страшно на это смотреть, я хоть и была ещё ребёнком, только 14 лет, но всё равно уже понимаешь такие вещи», - вспоминает Елена.
Дальше периодически в Наровлю приезжали, бабушка прожала довольно долго, хотя с Зоны никуда не переезжала, похоронили её три года назад в почтенном возрасте 98 лет.
«Ушла в полном уме, помнила имена всех своих правнуков, все дни рождения. До 95 лет жила одна, сама себя обслуживала, готовила, убиралась. Поэтому вообще непонятно как и на кого эта радиация действует. Бабушка же ела местную еду. Туда вообще очень многие потом вернулись, и сейчас продолжают возвращаться», - рассказывает Елена.
На фото: Елена с братом и бабушкой в Наровле
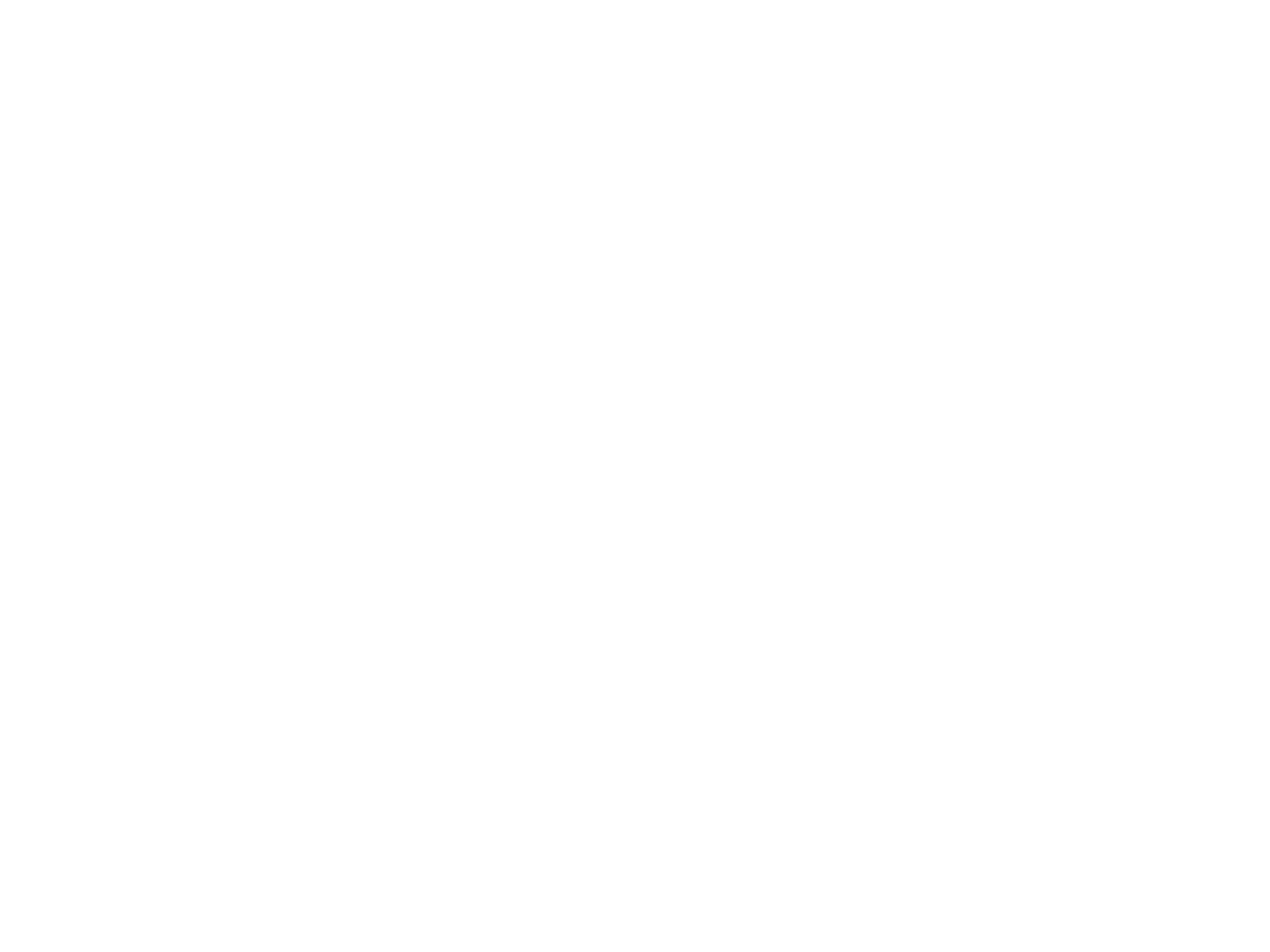
ВСЕ ЛЬГОТЫ ПОСТЕПЕННО УПРАЗДНИЛИ
Каких-то последствий авария для здоровья Елена не ощущает, мама тоже чувствует себя хорошо. Пока были льготы, получали их, а сейчас уже все упразднилось.
«Единственная моя льгота на данный момент, как пострадавшей, это возможность выбора дат отпуска в любое удобное для меня время. Поэтому, когда на работе все хотят уйти в отпуск летом и конкуренция на эти месяцы большая, я пользуюсь своим правом. Ещё могу взять дополнительно 14 дней отпуска за свой счёт и мне не имеют права отказать», - говорит Елена.
Когда-то, когда семья только переехала в Брест, действовало довольно много льгот: бесплатный проезд, 50% скидки на квартплату, раз в год бесплатный санаторий для взрослых, для детей льготы при поступлении в учебные заведения. Потихоньку это всё убирали, сейчас у мамы Елены никаких льгот не осталось, не смотря на то, что она ликвидатор.
«Мы очень хорошо жили в Наровле и если бы не уехали, то всё сложилось бы по-другому. Это маленький городок, все друг друга знают, родители там были уважаемыми людьми. Конечно, учиться в Наровле было не где, я бы куда-то уехала. Сложно сказать, как именно жизнь бы сложилась, но я думаю, что в карьере я бы могла добиться больших успехов. Но я все равно рада, у меня все хорошо, есть муж, есть дети, своей жизнью я довольна», - говорит Елена.
«Единственная моя льгота на данный момент, как пострадавшей, это возможность выбора дат отпуска в любое удобное для меня время. Поэтому, когда на работе все хотят уйти в отпуск летом и конкуренция на эти месяцы большая, я пользуюсь своим правом. Ещё могу взять дополнительно 14 дней отпуска за свой счёт и мне не имеют права отказать», - говорит Елена.
Когда-то, когда семья только переехала в Брест, действовало довольно много льгот: бесплатный проезд, 50% скидки на квартплату, раз в год бесплатный санаторий для взрослых, для детей льготы при поступлении в учебные заведения. Потихоньку это всё убирали, сейчас у мамы Елены никаких льгот не осталось, не смотря на то, что она ликвидатор.
«Мы очень хорошо жили в Наровле и если бы не уехали, то всё сложилось бы по-другому. Это маленький городок, все друг друга знают, родители там были уважаемыми людьми. Конечно, учиться в Наровле было не где, я бы куда-то уехала. Сложно сказать, как именно жизнь бы сложилась, но я думаю, что в карьере я бы могла добиться больших успехов. Но я все равно рада, у меня все хорошо, есть муж, есть дети, своей жизнью я довольна», - говорит Елена.
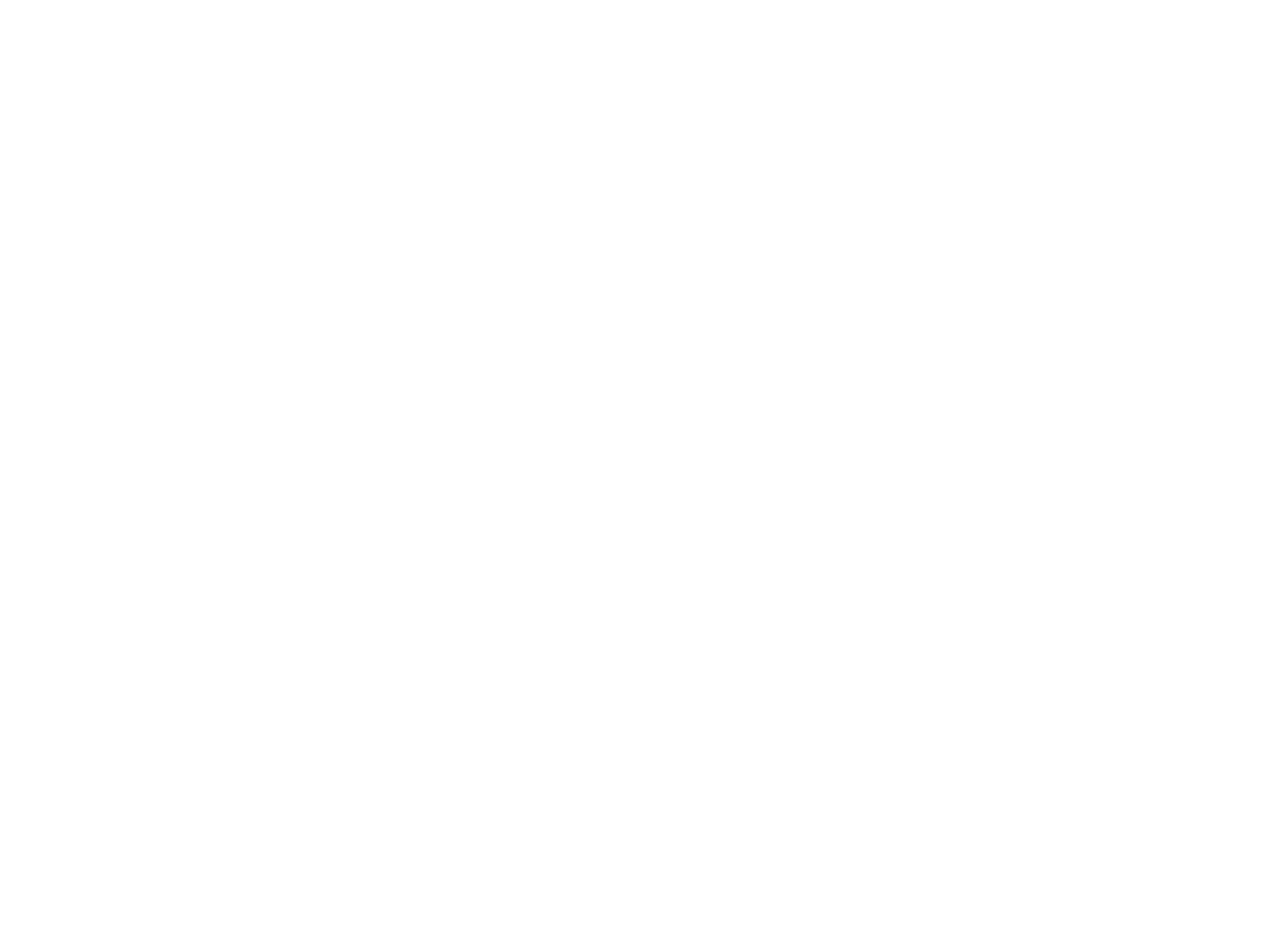
«Я была ребёнком Чернобыля». История Софии Москаленко от первого лица 26 апреля 1986 года, когда на Чернобыльской АЭС взорвался четвёртый реактор, я была 10-летней девочкой и жила в 100 километрах от станции, в столице УССР Киеве. Это была солнечная суббота, и большую часть дня я провела на улице, играя с другими детьми из нашего дома. Мы протиснулись через кованые ворота в дальнем углу двора, а затем обошли полуразрушенную стену вокруг археологических раскопок в самом сердце Старого города. Перепрыгивая через руины, мы собирали полевые цветы и зазубренные куски глины, которые считали сокровищами, пока мамы не звали нас обедать, выкрикивая наши имена через открытые окна. Источник: VOX.com |
Чтобы попасть в квартиру, мы вошли через дверь, которая когда-то, до революции 1917 года, была только для прислуги. Потом все стали равны, и буржуазная квартира была разделена на две части, каждая с отдельным входом: наша – с крутой лестницей во двор, другая – с пологой мраморной лестницей, ведущей на улицу. Ореховые паркетные полы и дореволюционные высокие потолки, украшенные рельефами, контрастировали с реальностью советской коммунальной жизни: три семьи делили коридор, ванную и кухню. На стенах ванной висели три сиденья унитаза, на каждом из которых была указана фамилия, а горелки газовой плиты были разделены между семьями.
Я ела свой обед – картофельное пюре и котлету из говяжьего фарша, а за широко распахнутым окном кухни было голубое небо. Я не знала о Чернобыле несколько дней после взрыва. Но радиация распространялась по воздуху и оседала из-за дождей. Автобусы доставляли беженцев из Чернобыля в Киев, привозя дополнительную радиацию на телах беженцев и их вещах. Я ничего из этого не знала.
Однажды приехала наша соседка Елена, научная сотрудница Киевского института ядерной физики. Без обычных формальностей она втянула мою маму в нашу комнату и закрыла за собой дверь. Она рассказала маме, что на атомной электростанции произошел взрыв, и что радиация выходит из реактора в Чернобыле, достигая опасного уровня и в Киеве. Она сказала, что мы должны держать окна закрытыми и что я должна сидеть дома, а не ходить в школу.
Фото: buzzfeednews.com
Я ела свой обед – картофельное пюре и котлету из говяжьего фарша, а за широко распахнутым окном кухни было голубое небо. Я не знала о Чернобыле несколько дней после взрыва. Но радиация распространялась по воздуху и оседала из-за дождей. Автобусы доставляли беженцев из Чернобыля в Киев, привозя дополнительную радиацию на телах беженцев и их вещах. Я ничего из этого не знала.
Однажды приехала наша соседка Елена, научная сотрудница Киевского института ядерной физики. Без обычных формальностей она втянула мою маму в нашу комнату и закрыла за собой дверь. Она рассказала маме, что на атомной электростанции произошел взрыв, и что радиация выходит из реактора в Чернобыле, достигая опасного уровня и в Киеве. Она сказала, что мы должны держать окна закрытыми и что я должна сидеть дома, а не ходить в школу.
Фото: buzzfeednews.com
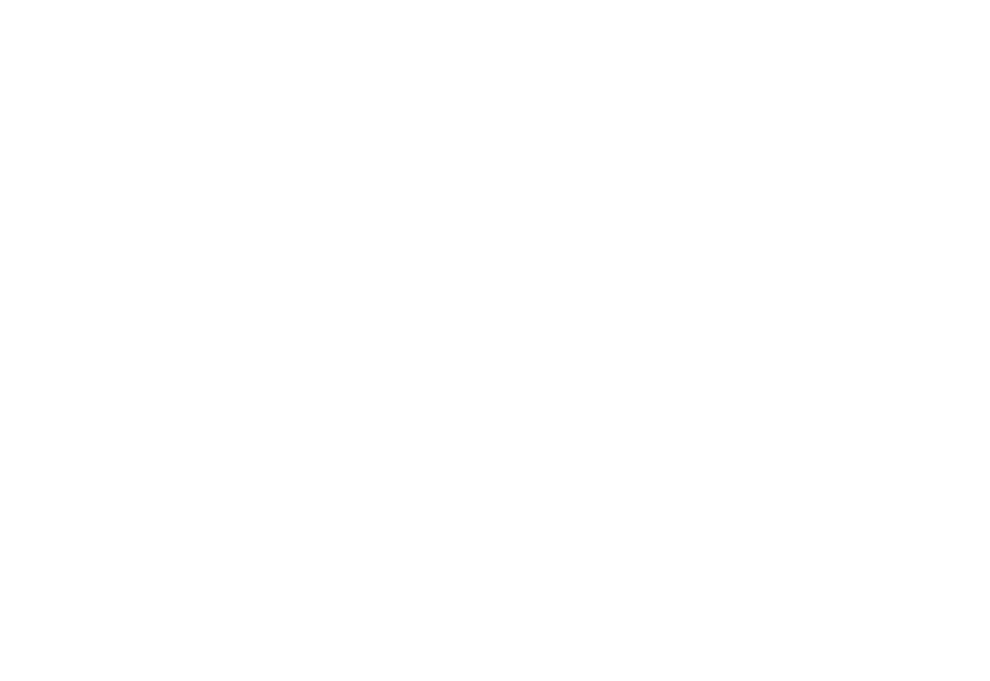
Мне было интересно, может ли Елена быть права, а правительство - нет. Это казалось невозможным. Как мог один человек знать больше, чем все правительство, особенно правительство в Москве, где у них были лучшие специалисты? То, что Елена сказала о радиации, звучало как страшная сказка: ее нельзя было увидеть или понюхать, нельзя было избавиться от нее, просеивая или кипятя воду, и все же она могла убить. Я вытерла потные ладони о юбку.
Последовала бурная дискуссия, результатом которой стало единодушное заключение, что Елена преувеличивает незначительную проблему, чтобы выставить напоказ свои знания. Три женщины, матриархи семей, с которыми мы делили коммунальную квартиру, кивнули друг другу и поджали губы. Они закатили глаза на ищущую внимания Елену. Я выдохнула. Казалось, все будет хорошо.
Фото: newizv.ru
Последовала бурная дискуссия, результатом которой стало единодушное заключение, что Елена преувеличивает незначительную проблему, чтобы выставить напоказ свои знания. Три женщины, матриархи семей, с которыми мы делили коммунальную квартиру, кивнули друг другу и поджали губы. Они закатили глаза на ищущую внимания Елену. Я выдохнула. Казалось, все будет хорошо.
Фото: newizv.ru
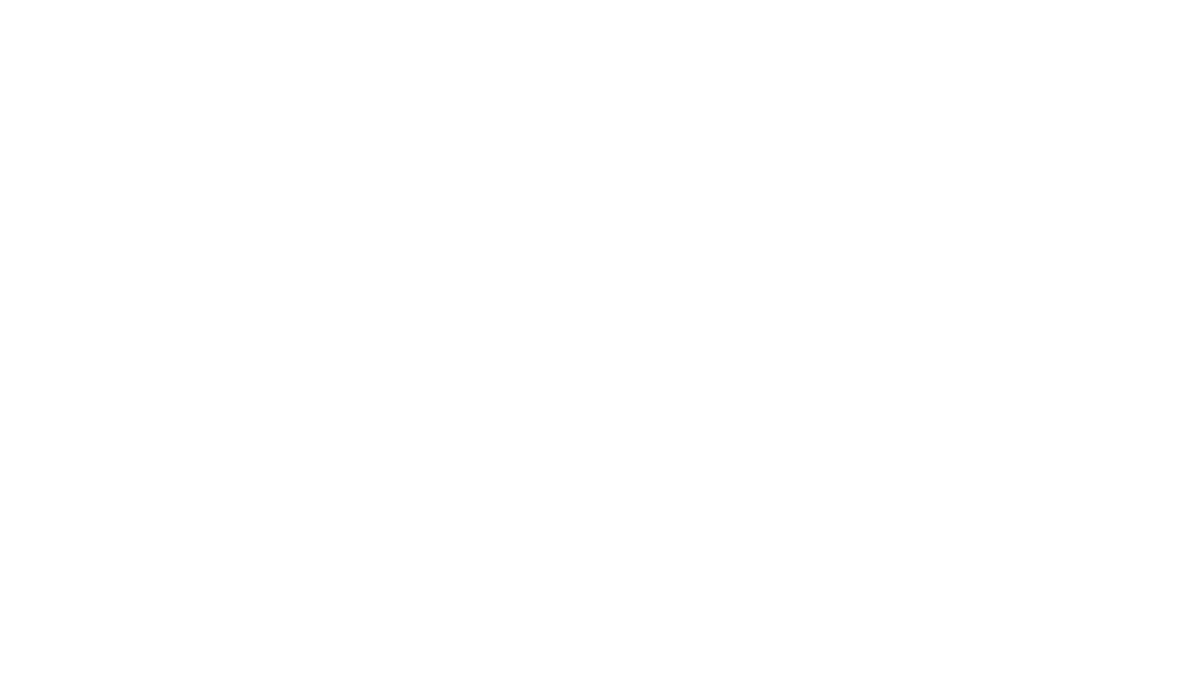
«ОНИ ЗНАЛИ, ЧТО ДЕЛАТЬ»
Детство окрашено палитрой иллюзий - что мир безопасен, взрослые справедливы, а будущее прекрасно. Взрыв в Чернобыле стёр моё детство. Советский способ решения проблем заключался в том, что солдат не должен ныть или жалеть себя, и поэтому я построила саркофак над болью, которую испытывала.
Мне потребовалось время, чтобы посмотреть мини-сериал HBO «Чернобыль». После того, как он вышел, я заметила обсуждения на русскоязычных форумах в Facebook, где буквально каждый ответ был историей выживших. Друзья спрашивали, видела ли я это. Когда на парковке в мою машину въехал мужчина, он, узнав, что у меня украинская фамилия, сразу спросил, смотрела ли я сериал. Наконец я сдалась. Уложила троих детей спать и включила кино. Я не могла остановиться, пока не закончила все пять серий, так что просмотр затянулся до двух часов ночи.
С первой же сцены фильма было видно, как проработаны все мельчайшие детали. У нас была такая же пепельница из дутого стекла и такие же книжные полки, что и в квартире Валерия Легасова. На мне была такая же школьная форма (коричневое платье, белый воротник, черный или белый фартук).
Я была в нем в один из дней после взрыва, когда по дороге в школу увидела огромный грузовик, медленно катящийся по бульвару. Два фонтана под его кабиной разбрызгивали воду, а за ним вращалась гигантская цилиндрическая щетка, скребшая мокрый асфальт. Я видела эти машины только перед большими праздниками. На остановке троллейбуса толпа людей гудела от разговоров. Я слышала «Чернобыль» несколько раз. Двери троллейбуса открылись, я зашла в него и стала протискиваться между пассажирами к дыроколу. Под ним сидели две женщины – их лица сморщились, а плечи были напряжены. Наклонившись друг к другу, они заговорили о раке от радиации.
В школе я спросила свою подругу, с которой сидела за одной партой, слышала ли она о Чернобыле. Она покачала головой. Я осмотрела класс. Трое детей пропали. Были ли они больны или родители забрали их из-за радиации? Но учительница казалась такой же спокойной и собранной, как всегда, и я снова вздохнула с облегчением. Правительство, учитель, моя мама - они знали, что делать.
Фото: www.fresher.ru
Мне потребовалось время, чтобы посмотреть мини-сериал HBO «Чернобыль». После того, как он вышел, я заметила обсуждения на русскоязычных форумах в Facebook, где буквально каждый ответ был историей выживших. Друзья спрашивали, видела ли я это. Когда на парковке в мою машину въехал мужчина, он, узнав, что у меня украинская фамилия, сразу спросил, смотрела ли я сериал. Наконец я сдалась. Уложила троих детей спать и включила кино. Я не могла остановиться, пока не закончила все пять серий, так что просмотр затянулся до двух часов ночи.
С первой же сцены фильма было видно, как проработаны все мельчайшие детали. У нас была такая же пепельница из дутого стекла и такие же книжные полки, что и в квартире Валерия Легасова. На мне была такая же школьная форма (коричневое платье, белый воротник, черный или белый фартук).
Я была в нем в один из дней после взрыва, когда по дороге в школу увидела огромный грузовик, медленно катящийся по бульвару. Два фонтана под его кабиной разбрызгивали воду, а за ним вращалась гигантская цилиндрическая щетка, скребшая мокрый асфальт. Я видела эти машины только перед большими праздниками. На остановке троллейбуса толпа людей гудела от разговоров. Я слышала «Чернобыль» несколько раз. Двери троллейбуса открылись, я зашла в него и стала протискиваться между пассажирами к дыроколу. Под ним сидели две женщины – их лица сморщились, а плечи были напряжены. Наклонившись друг к другу, они заговорили о раке от радиации.
В школе я спросила свою подругу, с которой сидела за одной партой, слышала ли она о Чернобыле. Она покачала головой. Я осмотрела класс. Трое детей пропали. Были ли они больны или родители забрали их из-за радиации? Но учительница казалась такой же спокойной и собранной, как всегда, и я снова вздохнула с облегчением. Правительство, учитель, моя мама - они знали, что делать.
Фото: www.fresher.ru
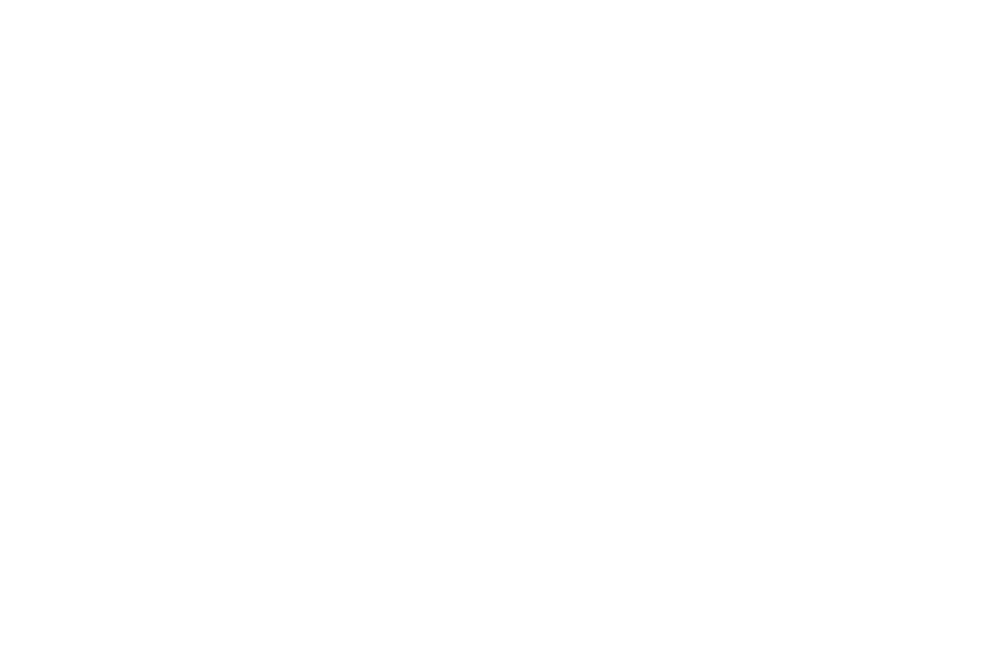
По дороге домой я считала причины, чтобы не волноваться. Две девочки играли в классики у входа в парк, и среди зелени раздавались детские голоса. Бабушка качала младенца в коляске. Я решила, что все эти люди, проводящие время на открытом воздухе, не могут ошибаться. Все должно быть хорошо.
Но каждый день моя уверенность ослабевала, даже когда партийные руководители по телевидению уверяли нас, что «пожар» в Чернобыле находится под контролем. Во дворе, в автобусах и троллейбусах, в продуктовых магазинах я слышала шёпот, противоречащий официальным новостям. Говорили, что первые спасатели, отправившиеся в Чернобыль, умирали. Я слышала, что десятки тысяч людей были эвакуированы, и им пришлось оставить всё, что у них было. У нас с мамой было не так уж много вещей, но я не могла представить, что оставлю коллекцию книг, стоявшую вдоль стен в нашей комнате.
Одноклассник, чей отец был милиционером, заставил нас на переменке поклясться, что мы никому не выдадим тайну, а затем рассказал нам о средствах защиты, которые использовали военные при отправке в Чернобыль, и о специальных химических душах, которые им приходилось принимать на выходе. Каждый день все больше детей пропускали школу. Всё больше окон оставались в майскую жару закрытыми или же их открывали, предварительно натянув на раму белую марлю. Утром и ночью грузовики мыли улицы, ползая в темноте, а их щетки шуршали, словно напоминания о том, что все должны молчать.
Благодаря своим связям со спекулянтами наша соседка Ирина раздобыла счетчик Гейгера и однажды ночью притащила его домой. Мы водили его палочкой над молоком, яйцами, хлебом. Все затрещало, залилось радиацией. Мы вслух поинтересовались, исправно ли устройство. На следующий день Ирине пришлось вернуть счётчик, но его треск запомнился мне как саундтрек к моей тревоге.
Фото: ipukr.com
Но каждый день моя уверенность ослабевала, даже когда партийные руководители по телевидению уверяли нас, что «пожар» в Чернобыле находится под контролем. Во дворе, в автобусах и троллейбусах, в продуктовых магазинах я слышала шёпот, противоречащий официальным новостям. Говорили, что первые спасатели, отправившиеся в Чернобыль, умирали. Я слышала, что десятки тысяч людей были эвакуированы, и им пришлось оставить всё, что у них было. У нас с мамой было не так уж много вещей, но я не могла представить, что оставлю коллекцию книг, стоявшую вдоль стен в нашей комнате.
Одноклассник, чей отец был милиционером, заставил нас на переменке поклясться, что мы никому не выдадим тайну, а затем рассказал нам о средствах защиты, которые использовали военные при отправке в Чернобыль, и о специальных химических душах, которые им приходилось принимать на выходе. Каждый день все больше детей пропускали школу. Всё больше окон оставались в майскую жару закрытыми или же их открывали, предварительно натянув на раму белую марлю. Утром и ночью грузовики мыли улицы, ползая в темноте, а их щетки шуршали, словно напоминания о том, что все должны молчать.
Благодаря своим связям со спекулянтами наша соседка Ирина раздобыла счетчик Гейгера и однажды ночью притащила его домой. Мы водили его палочкой над молоком, яйцами, хлебом. Все затрещало, залилось радиацией. Мы вслух поинтересовались, исправно ли устройство. На следующий день Ирине пришлось вернуть счётчик, но его треск запомнился мне как саундтрек к моей тревоге.
Фото: ipukr.com
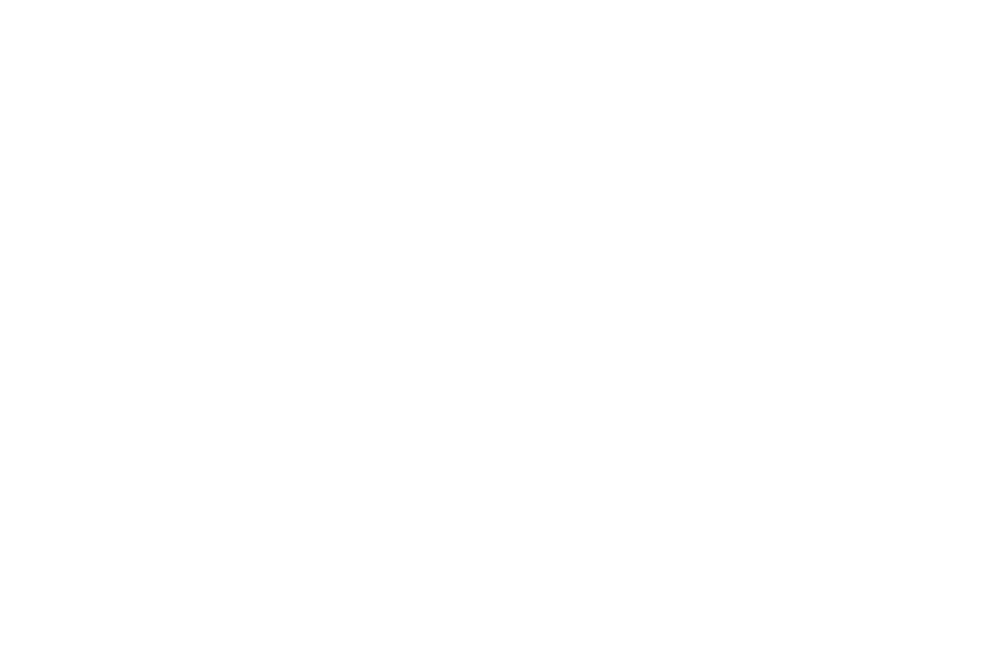
НАКОНЕЦ, ЭВАКУАЦИЯ
Одна за другой машины, обычно припаркованные у нас во дворе, исчезали. Бабушки, охранявшие мораль каждого со скамейки, рассказывали о том, как убегали люди. Они направлялись как можно дальше от Киева, чтобы избежать радиации. Ни у кого в моей семье не было машины, что было редкостью в СССР. Мой отец, который к тому времени женился во второй раз и проживал в Риге, более чем в 900 километрах от Чернобыля, не выразил никакого желания принимать меня. Это было даже хорошо, потому что билеты на поезд были распроданы, а спекулянты перепродавали их по непомерным ценам - 200 руб, что вдвое превышало среднемесячную зарплату.
Лишь в конце мая правительство объявило об обязательной эвакуации детей школьного возраста. Они не сказали, как надолго.
Моя мама сшила для меня спортивную сумку из легкой прочной ткани старого парашюта и молнии, которую она вытащила из пиджака моего деда. Упаковывая мою одежду, она объяснила, что не сможет отвезти меня на вокзал из-за работы, но я большая девочка и должна понимать.
Я читала об эвакуации в книгах о Второй мировой войне, мрачные истории о больных, голодающих детях, теряющихся на вокзалах. Я хотела остаться дома.
Но я была большой девочкой. Я поняла. Когда сослуживец моей матери отвез меня в школу, где грохотали автобусы, готовые отвезти нас на вокзал, я не плакала.
В поезде в Крым я утешалась равномерных покачиванием, знакомыми лицами одноклассников, сладким чаем, который нам подавали в алюминиевых кружках со стеклянными вставками. «Может, это так и ужасно», - подумала я. Может, мы побудем там месяц, как в отпуске, а потом вернемся домой».
Я ошибался. Эвакуация длилась три месяца и больше походила на учебный лагерь, чем на каникулы. В первый день мы выучили множество правил, регулирующих каждый момент нашей жизни. Нам не разрешали выходить за определенный периметр. Жесткий график занимал нас от рассвета до заката. Каждый день мы тренировались в походных порядках и пели военные песни. После этого мы выдвигались по бетонной дороге, обесцвеченной солнцем и окруженной кипарисами, к пляжу. По свистку нам разрешили идти (не бегать) по мелководью, оцепленному ярко-красными буями. Нам не разрешали плавать. Чтение считалось одиноким занятием, и, поскольку нам было поручено построить коллектив, книг не было.
В письмах я умоляла маму забрать меня. В июле правительство объявило, что детей не пустят обратно в Киев до сентября, и некоторые родители приехали забрать своих детей. Я была среди тех, кто остался. Моя мама написала, что вытащить меня будет слишком дорого.
Я думала о том, чтобы сбежать из лагеря и вернуться в Киев. Но когда я попыталась убедить своих друзей присоединиться ко мне, они слабо улыбнулись и пожали плечами. Им понравилась идея приключения, но они беспокоились о деталях - где мы будем спать, где взять еду, что, если милиция поймает нас. «Они не три мушкетера», - подумала я с тревогой.
Мне не терпелось уйти. Я вся чесалась. Ночью я чесала голову, пока не почувствовала под ногтями теплую липкую кровь. Струпья покрыли кожу головы. Чешуйчатые пятна расползались между пальцами и в сгибах локтей.
Через несколько месяцев я узнала, что у меня развился дерматит - аутоиммунное заболевание, которое может быть вызвано стрессом. Это также было обычным эффектом радиационного воздействия. Но тогда, в лагере, я была уверена, что это рак.
Ну и ладно, - подумала я тогда. В любом случае обо мне никто не заботился, ни мои родители, ни учителя. Правительство солгало о Чернобыле, сказав, что это безопасно. Весь май я играла на открытом воздухе, мокла под радиоактивным дождем, копалась в радиоактивной грязи, ела радиоактивную пищу.
Фото: chernobyl.kh.ua
Лишь в конце мая правительство объявило об обязательной эвакуации детей школьного возраста. Они не сказали, как надолго.
Моя мама сшила для меня спортивную сумку из легкой прочной ткани старого парашюта и молнии, которую она вытащила из пиджака моего деда. Упаковывая мою одежду, она объяснила, что не сможет отвезти меня на вокзал из-за работы, но я большая девочка и должна понимать.
Я читала об эвакуации в книгах о Второй мировой войне, мрачные истории о больных, голодающих детях, теряющихся на вокзалах. Я хотела остаться дома.
Но я была большой девочкой. Я поняла. Когда сослуживец моей матери отвез меня в школу, где грохотали автобусы, готовые отвезти нас на вокзал, я не плакала.
В поезде в Крым я утешалась равномерных покачиванием, знакомыми лицами одноклассников, сладким чаем, который нам подавали в алюминиевых кружках со стеклянными вставками. «Может, это так и ужасно», - подумала я. Может, мы побудем там месяц, как в отпуске, а потом вернемся домой».
Я ошибался. Эвакуация длилась три месяца и больше походила на учебный лагерь, чем на каникулы. В первый день мы выучили множество правил, регулирующих каждый момент нашей жизни. Нам не разрешали выходить за определенный периметр. Жесткий график занимал нас от рассвета до заката. Каждый день мы тренировались в походных порядках и пели военные песни. После этого мы выдвигались по бетонной дороге, обесцвеченной солнцем и окруженной кипарисами, к пляжу. По свистку нам разрешили идти (не бегать) по мелководью, оцепленному ярко-красными буями. Нам не разрешали плавать. Чтение считалось одиноким занятием, и, поскольку нам было поручено построить коллектив, книг не было.
В письмах я умоляла маму забрать меня. В июле правительство объявило, что детей не пустят обратно в Киев до сентября, и некоторые родители приехали забрать своих детей. Я была среди тех, кто остался. Моя мама написала, что вытащить меня будет слишком дорого.
Я думала о том, чтобы сбежать из лагеря и вернуться в Киев. Но когда я попыталась убедить своих друзей присоединиться ко мне, они слабо улыбнулись и пожали плечами. Им понравилась идея приключения, но они беспокоились о деталях - где мы будем спать, где взять еду, что, если милиция поймает нас. «Они не три мушкетера», - подумала я с тревогой.
Мне не терпелось уйти. Я вся чесалась. Ночью я чесала голову, пока не почувствовала под ногтями теплую липкую кровь. Струпья покрыли кожу головы. Чешуйчатые пятна расползались между пальцами и в сгибах локтей.
Через несколько месяцев я узнала, что у меня развился дерматит - аутоиммунное заболевание, которое может быть вызвано стрессом. Это также было обычным эффектом радиационного воздействия. Но тогда, в лагере, я была уверена, что это рак.
Ну и ладно, - подумала я тогда. В любом случае обо мне никто не заботился, ни мои родители, ни учителя. Правительство солгало о Чернобыле, сказав, что это безопасно. Весь май я играла на открытом воздухе, мокла под радиоактивным дождем, копалась в радиоактивной грязи, ела радиоактивную пищу.
Фото: chernobyl.kh.ua
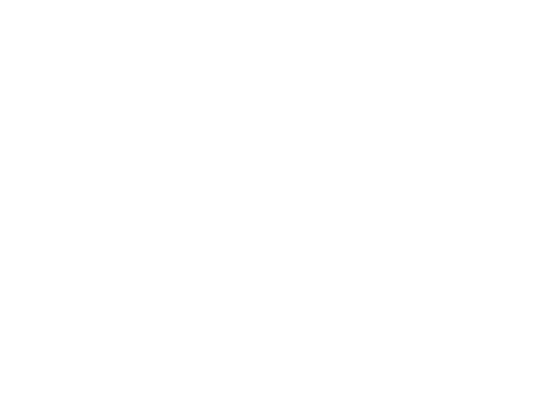
ДИАГНОЗ ПОСЛЕ ДОЛГИХ ЛЕТ ИЗНУРЯЮЩЕЙ БОЛИ
Маша Гессен из Нью-Йорка раскритиковала образ советских чиновников в сериале «Чернобыль» как нереалистично гуманистический. Советские люди не стали бы подвергать сомнению официальную позицию партии, как это делает химик Валерий Легасов в сериале, спрашивая: «Неужели это действительно так?»
«Дело в том, - писала Гессен, - если бы он не знал, как это работает, у него никогда не было бы лаборатории». Точно так же Ульяна Хомюк, которую сыграла Эмили Уотсон, была непохожа на советских ученых, которых она должна была представлять. Вместо этого ее стремление к истине и ее обращения к властям, как писала Гессен, «похоже, воплощают все возможные голливудские фантазии».
Действительно, в 1986 году я не видела ничего, кроме пустых взглядов и напряженных верхних губ взрослых, ответственных за это. Вот почему я так благодарна сериалу Чернобыль за каждое отклонение от советского сценария. Наконец, я наблюдала за реакциями, которые так хотела увидеть, когда мне было 10 лет. Кто-то тогда должен был стучать по столу, таращиться на правительственную ложь, кричать на лицемеров. Поскольку никто этого не делал, мои собственные эмоции казались каким-то капризом. Поскольку никто так никогда не раскаялся, мои обиды казались необоснованными. Наблюдение за сериалом было похоже на получение диагноза малозаметной на первый взгляд, но разрушительной болезни, которую тем, кто не страдает, трудно оценить или даже поверить в нее. Это было подтверждением, что всё реально.
«Дело в том, - писала Гессен, - если бы он не знал, как это работает, у него никогда не было бы лаборатории». Точно так же Ульяна Хомюк, которую сыграла Эмили Уотсон, была непохожа на советских ученых, которых она должна была представлять. Вместо этого ее стремление к истине и ее обращения к властям, как писала Гессен, «похоже, воплощают все возможные голливудские фантазии».
Действительно, в 1986 году я не видела ничего, кроме пустых взглядов и напряженных верхних губ взрослых, ответственных за это. Вот почему я так благодарна сериалу Чернобыль за каждое отклонение от советского сценария. Наконец, я наблюдала за реакциями, которые так хотела увидеть, когда мне было 10 лет. Кто-то тогда должен был стучать по столу, таращиться на правительственную ложь, кричать на лицемеров. Поскольку никто этого не делал, мои собственные эмоции казались каким-то капризом. Поскольку никто так никогда не раскаялся, мои обиды казались необоснованными. Наблюдение за сериалом было похоже на получение диагноза малозаметной на первый взгляд, но разрушительной болезни, которую тем, кто не страдает, трудно оценить или даже поверить в нее. Это было подтверждением, что всё реально.
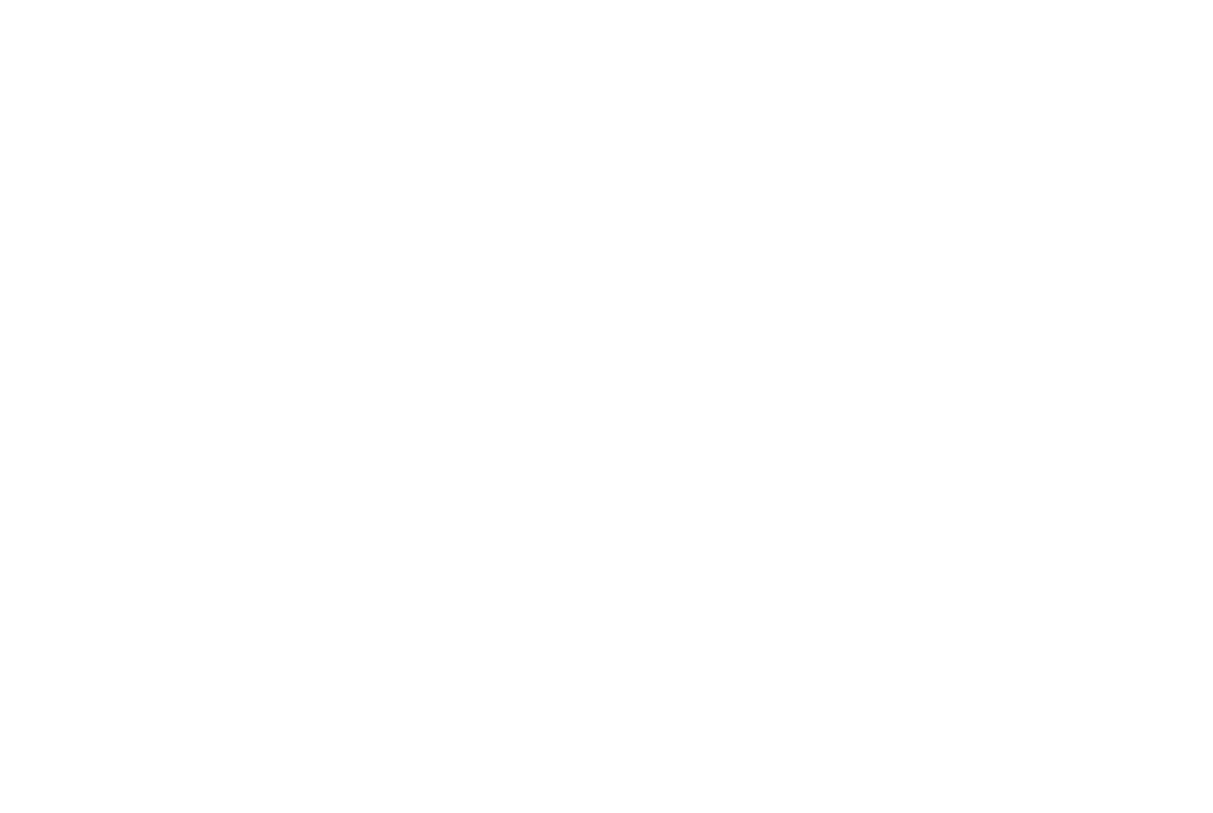
Кора Евсеев
«Тридцать лет назад одна ошибка разрушила жизнь. Мою жизнь, жизнь моей семьи и жизнь страны. Хорошо помню этот день. Мы долго не могли выйти с бабушкой из дому. В начале долго заплетали косы. Потом мне захотелось «кофе» - терпкого и вонючего «Колоса». Было холодно, я завернулась в черную каракулевую шубу, пахнущую псиной, и выползла на балкон. Меня удивили облака. Они были золотыми, с серой окантовкой. И все затихло. Даже птицы. На 14 этаже киевской многоэтажки, меня окружал липкий, масляный воздух. Мне показалось, что я могу почувствовать его кончиками пальцев. Вдруг, внезапно, что-то тяжелое навалилось на грудь. Я уронила чашку и сильно заплакала. Тогда бабушка подхватила меня и быстро увела гулять, «подышать воздухом» в лесу. И мы дышали. Собирали цветные листья, рассматривали зеленые новорожденные листочки. Пока не пошел желтый дождь. Странный желтый дождь, оставляющий за собой желтую и желчную пену.
Именно в этот день я потеряла отца и семью. Когда мы вернулись, бабушка получила звонок от отца. Он рассказал о катастрофе и о том, что еще долго не вернется домой. Бабушка постарела за один день на 20 лет. Мы выбросили одежду, постригли коротко волосы, и она больше никогда не вернулась ко мне. Красивая, и уже немолодая женщина, никогда больше не вышла замуж. Ее взгляд потух и навсегда в нем поселилась боль. С тех пор, она смотрела сквозь меня. Она улыбалась только отражению. Только когда тень отца проскальзывала в моей улыбке или в жесте. Мы продолжали жить вместе. От телефонного звонка до телефонного звонка. «Живой?!» - «Он живой?!!!»
Отца не было долго. Потом он вернулся. Больной и серый. Он тяжело дышал и перестал разговаривать. Остался на несколько дней. Бабушка вставала каждую ночь. Ей было страшно и стыдно бояться. Поэтому она на цыпочках прокрадывалась к его двери и слушала дыхание. Плакала, когда он задыхался, и успокаивалась только когда он начинал ровно дышать.
Потом мы еще долго лежали вместе, с открытыми глазами переспрашивая друг друга – «Дышит?» - «Дышит», «Правда?» - «Правда!» Когда отец уходил в последний раз, бабушка сломалась. Интеллигентная женщина с чувством достоинства детского врача и психиатра выскочила за ним простоволосая, в ночной сорочке и заголосила. Тогда я, пятилетняя девочка, заглянула в лицо уродливому и настоящему горю. В этот день я потеряла и отца.
С того самого дня он редко возвращался. А когда возвращался, то возвращалась его оболочка – пугающий, согнутый великан с черными глазами. Бабушка плакала, мне кажется, что он тоже. Я ничего не понимала и терялась в маленькой трехкомнатной квартире. Мне пришлось придумать свой собственный мир. Получив разрешение на переезд в комнату отца, я научилась читать.
В моих фантазиях мы читали вместе. Вместе пошли в школу. Мой вкус формировался книгами, стоящими на его полках. Я до сих пор помню их запах. Помню, как плакала над чайными кружками, запачкавшими страницы. Это он пил чай и когда-то читал. С тех самых пор я одинока. И одиночество – мой дом.
Я очень рано и неудачно вышла замуж. Привет Фрейду. Мой муж был почти великаном. С большими, черными, пустыми глазами. Мы почти не общались с отцом. С бабушкой чаще. Но всегда с «позвони отцу». Я звонила. Только перед этим долго злилась. Или плакала. Или и то, и другое. Мы слишком похожи, чтобы плакать вместе.
Лет 12 назад я повзрослела, развелась и даже смогла прийти на его день рождения. В доме сидели хмельные, веселые, счастливые и тяжело больные люди – «коллеги». «Коллега» подхватила меня. Расцеловала влажным, добросердечным поцелуем и радостно сообщила: «Выпьем с нами?! А то, вдруг, в следующий год не успеем?»
Отец молчал, а девицы рассказывали. Как он «бросал семью» и спасал их жизни. Как отбирал накопители у мальчиков и девочек. Как получал дозу облучения за них. Я слушала затаив дыхание и меня душили слезы.
Простите меня. Мне стыдно. Но тогда мне хотелось, чтобы он не делал этого. Мне хотелось, чтобы все эти девочки и мальчики взялись за руки и вошли в этот ад вместо него.
Почему он? Почему я? Почему моя семья?.. Вырвавшись из объятий чернобыльских «коллег», после нескольких бокалов вина, я позвонила в первый университет, который пришел на ум и спросила, куда подать документы: «Хочу быть психологом!»
- Все хотят. Почему именно вы?
- Хочу помогать людям!
- Все хотят. Нам такие не нужны.
- Тогда... тогда хочу помочь себе. Я знаю, что такое боль. И знаю, что такое выжить.
Меня приняли без экзаменов. Пять лет назад мы начали общаться с отцом. Через океаны и миллионы проводов. Сейчас я могу смотреть ему в глаза. А он – в мои. Мы можем говорить о страхе, боли и смерти.
Сегодня, я понимаю его. Глядя на свою дочь, осознаю, что сделала бы то же самое. Я бы смогла переступить через свою жизнь, и через жизнь своих близких, если бы верила, что смогу спасти ее. И других. Да, самопожертвование – верх эгоизма. Но именно оно делает нас людьми.
Папа, спасибо тебе. Спасибо, что ты ушел и оставил меня одну. Я выжила. Я молюсь за тебя. Эгоистично молюсь и прошу, проживи хоть еще немного. За эти пять лет я не уcпела тебе еще рассказать о себе».
Именно в этот день я потеряла отца и семью. Когда мы вернулись, бабушка получила звонок от отца. Он рассказал о катастрофе и о том, что еще долго не вернется домой. Бабушка постарела за один день на 20 лет. Мы выбросили одежду, постригли коротко волосы, и она больше никогда не вернулась ко мне. Красивая, и уже немолодая женщина, никогда больше не вышла замуж. Ее взгляд потух и навсегда в нем поселилась боль. С тех пор, она смотрела сквозь меня. Она улыбалась только отражению. Только когда тень отца проскальзывала в моей улыбке или в жесте. Мы продолжали жить вместе. От телефонного звонка до телефонного звонка. «Живой?!» - «Он живой?!!!»
Отца не было долго. Потом он вернулся. Больной и серый. Он тяжело дышал и перестал разговаривать. Остался на несколько дней. Бабушка вставала каждую ночь. Ей было страшно и стыдно бояться. Поэтому она на цыпочках прокрадывалась к его двери и слушала дыхание. Плакала, когда он задыхался, и успокаивалась только когда он начинал ровно дышать.
Потом мы еще долго лежали вместе, с открытыми глазами переспрашивая друг друга – «Дышит?» - «Дышит», «Правда?» - «Правда!» Когда отец уходил в последний раз, бабушка сломалась. Интеллигентная женщина с чувством достоинства детского врача и психиатра выскочила за ним простоволосая, в ночной сорочке и заголосила. Тогда я, пятилетняя девочка, заглянула в лицо уродливому и настоящему горю. В этот день я потеряла и отца.
С того самого дня он редко возвращался. А когда возвращался, то возвращалась его оболочка – пугающий, согнутый великан с черными глазами. Бабушка плакала, мне кажется, что он тоже. Я ничего не понимала и терялась в маленькой трехкомнатной квартире. Мне пришлось придумать свой собственный мир. Получив разрешение на переезд в комнату отца, я научилась читать.
В моих фантазиях мы читали вместе. Вместе пошли в школу. Мой вкус формировался книгами, стоящими на его полках. Я до сих пор помню их запах. Помню, как плакала над чайными кружками, запачкавшими страницы. Это он пил чай и когда-то читал. С тех самых пор я одинока. И одиночество – мой дом.
Я очень рано и неудачно вышла замуж. Привет Фрейду. Мой муж был почти великаном. С большими, черными, пустыми глазами. Мы почти не общались с отцом. С бабушкой чаще. Но всегда с «позвони отцу». Я звонила. Только перед этим долго злилась. Или плакала. Или и то, и другое. Мы слишком похожи, чтобы плакать вместе.
Лет 12 назад я повзрослела, развелась и даже смогла прийти на его день рождения. В доме сидели хмельные, веселые, счастливые и тяжело больные люди – «коллеги». «Коллега» подхватила меня. Расцеловала влажным, добросердечным поцелуем и радостно сообщила: «Выпьем с нами?! А то, вдруг, в следующий год не успеем?»
Отец молчал, а девицы рассказывали. Как он «бросал семью» и спасал их жизни. Как отбирал накопители у мальчиков и девочек. Как получал дозу облучения за них. Я слушала затаив дыхание и меня душили слезы.
Простите меня. Мне стыдно. Но тогда мне хотелось, чтобы он не делал этого. Мне хотелось, чтобы все эти девочки и мальчики взялись за руки и вошли в этот ад вместо него.
Почему он? Почему я? Почему моя семья?.. Вырвавшись из объятий чернобыльских «коллег», после нескольких бокалов вина, я позвонила в первый университет, который пришел на ум и спросила, куда подать документы: «Хочу быть психологом!»
- Все хотят. Почему именно вы?
- Хочу помогать людям!
- Все хотят. Нам такие не нужны.
- Тогда... тогда хочу помочь себе. Я знаю, что такое боль. И знаю, что такое выжить.
Меня приняли без экзаменов. Пять лет назад мы начали общаться с отцом. Через океаны и миллионы проводов. Сейчас я могу смотреть ему в глаза. А он – в мои. Мы можем говорить о страхе, боли и смерти.
Сегодня, я понимаю его. Глядя на свою дочь, осознаю, что сделала бы то же самое. Я бы смогла переступить через свою жизнь, и через жизнь своих близких, если бы верила, что смогу спасти ее. И других. Да, самопожертвование – верх эгоизма. Но именно оно делает нас людьми.
Папа, спасибо тебе. Спасибо, что ты ушел и оставил меня одну. Я выжила. Я молюсь за тебя. Эгоистично молюсь и прошу, проживи хоть еще немного. За эти пять лет я не уcпела тебе еще рассказать о себе».
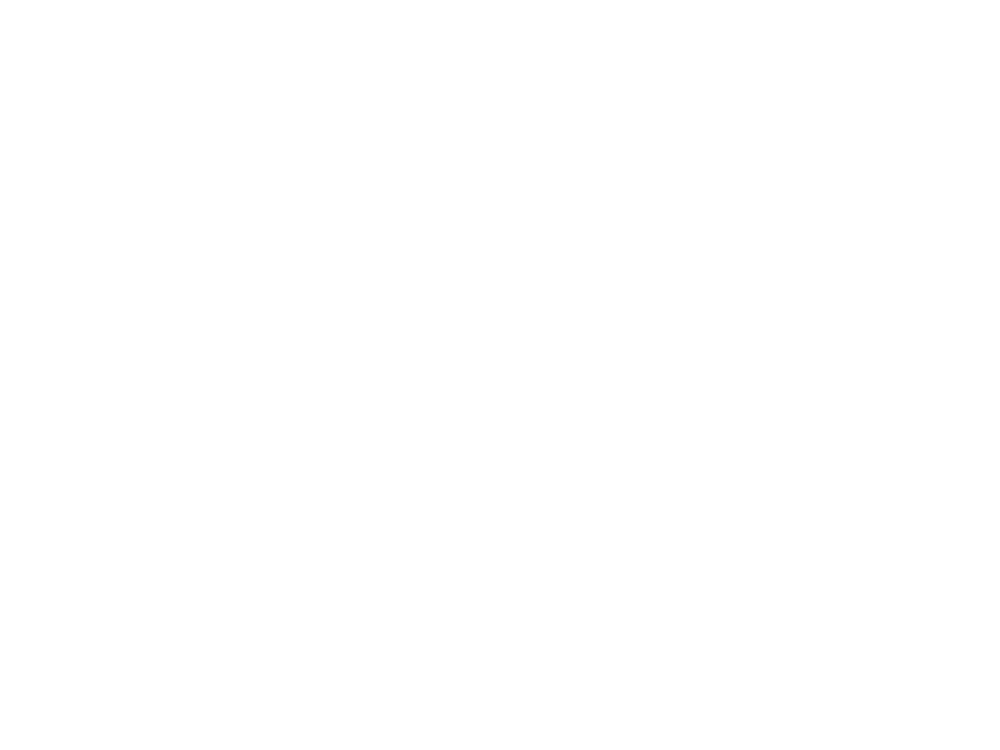
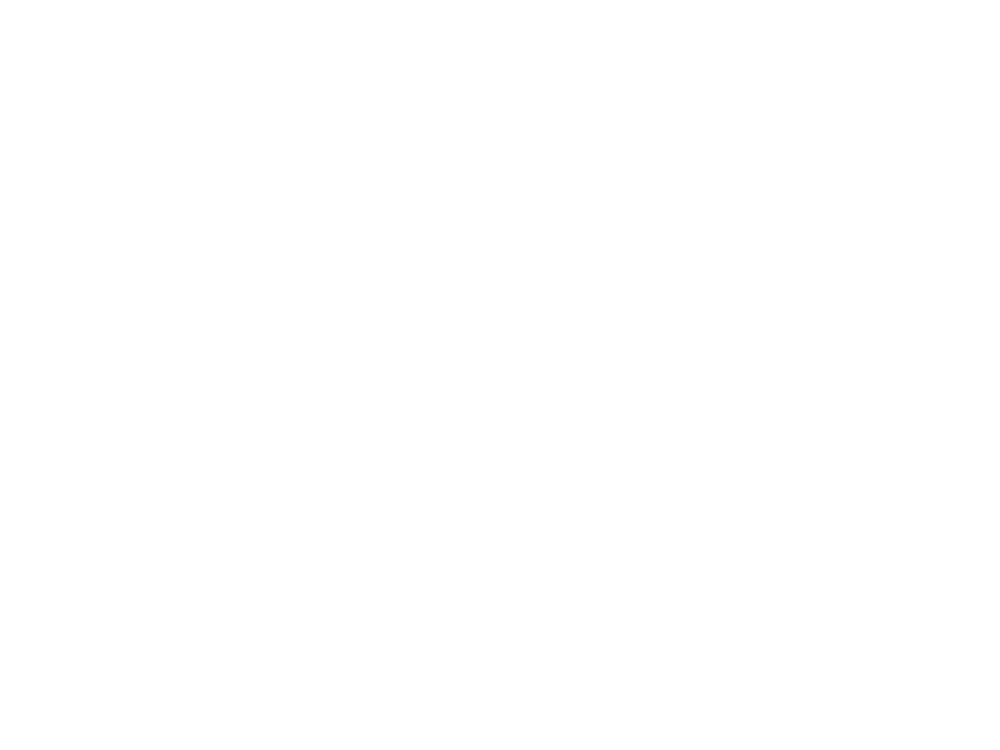
Дарья
«Кислотный дождь – если попасть под него, то можно облысеть.
Фрукты/овощи нужно чистить, срезая кожуру минимум один сантиметр.
Нельзя было собирать грибы первые годы после аварии.
Стройматериалы, которые выламывали мародёры из покинутых домов в зоне отчуждения перепроверять.
Проверять счётчиком Гейгера овощи/фрукты с рынка...»
Фрукты/овощи нужно чистить, срезая кожуру минимум один сантиметр.
Нельзя было собирать грибы первые годы после аварии.
Стройматериалы, которые выламывали мародёры из покинутых домов в зоне отчуждения перепроверять.
Проверять счётчиком Гейгера овощи/фрукты с рынка...»
Олена
«Нас увезли за день до паники в Бердянск. Бабушка услышала на детской площадке, моментально собрала нас с братом. И нас на год вывезли к ним.
На следующий день, по легенде, на вокзалах была жуткая паника и детей засовывали прямо в поезда через окна, все равно кому – только бы вывезти.
А нас с малым дома в Бердянске помыли, переодели и повели к врачу. Те смотрят дозиметром (откуда у врачей в Бердянске дозиметры тот еще вопрос) – у нас сандалии фонят страшно. Дедушка их выкинул и мы босые пошли в магазин и купили вьетнамки, а потом и новые сандалии.
На пустыре, на котором машины мыли после аварии, построили дом и детскую площадку. Местные не давали детям там гулять и квартиры не покупали».
На следующий день, по легенде, на вокзалах была жуткая паника и детей засовывали прямо в поезда через окна, все равно кому – только бы вывезти.
А нас с малым дома в Бердянске помыли, переодели и повели к врачу. Те смотрят дозиметром (откуда у врачей в Бердянске дозиметры тот еще вопрос) – у нас сандалии фонят страшно. Дедушка их выкинул и мы босые пошли в магазин и купили вьетнамки, а потом и новые сандалии.
На пустыре, на котором машины мыли после аварии, построили дом и детскую площадку. Местные не давали детям там гулять и квартиры не покупали».
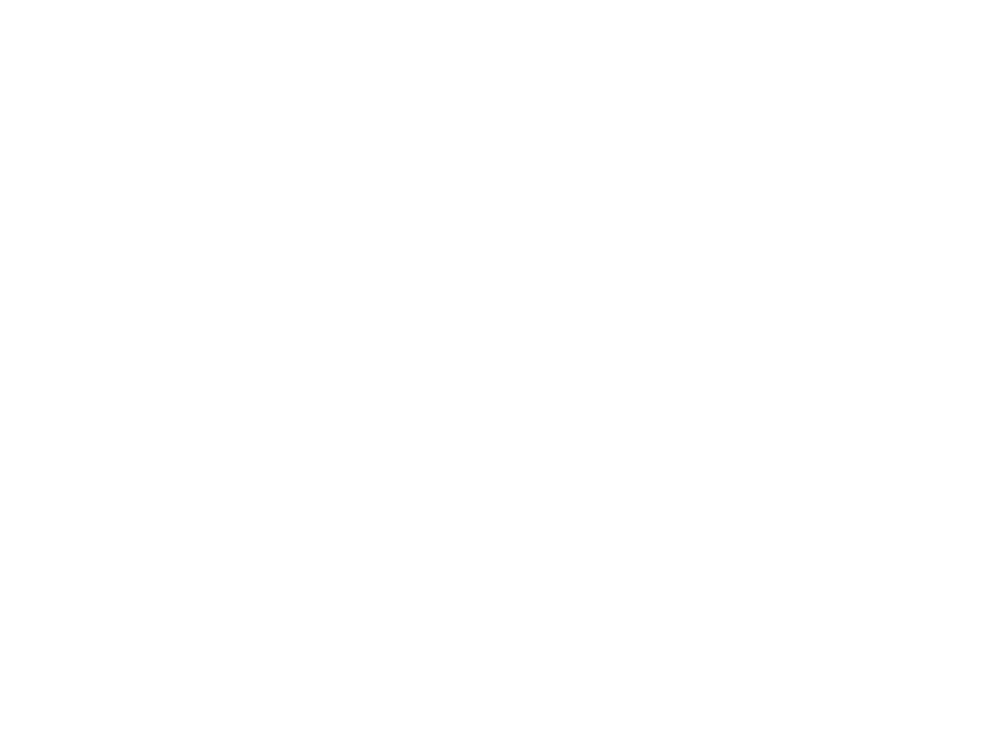
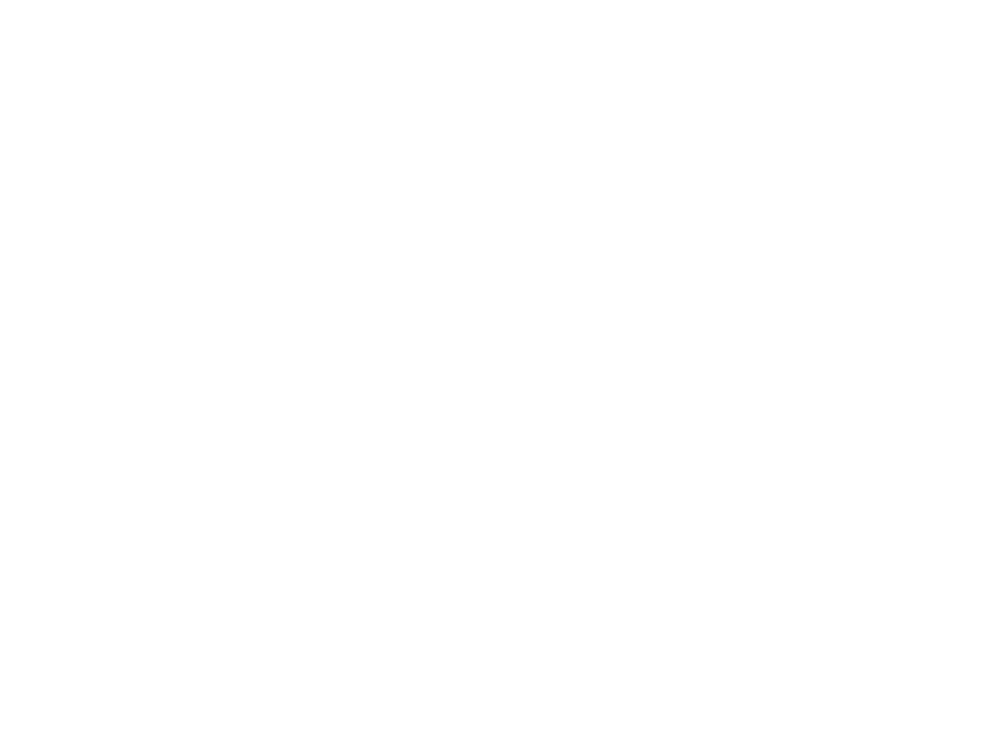
Светлана
«Я помню, что советовали пить красное вино. Помню сумасшедшие очереди за вином.
Не рекомендовали попадать под дождь, говорили, что он радиоактивный.
Потом запрещали собирать грибы и ягоды.
Позже появились страшилки про двухголовых телят, другую необычную живность и рыб-мутантов.
На рынках появились строительные материалы, якобы из Чернобыльской зоны».
Не рекомендовали попадать под дождь, говорили, что он радиоактивный.
Потом запрещали собирать грибы и ягоды.
Позже появились страшилки про двухголовых телят, другую необычную живность и рыб-мутантов.
На рынках появились строительные материалы, якобы из Чернобыльской зоны».
Мария
«Страшилки ходили про беларусскую ягодку и ромашки величиной с кулак. Про кислотные дожди, про зараженное мясо и молочку, про грибы и ягоды».
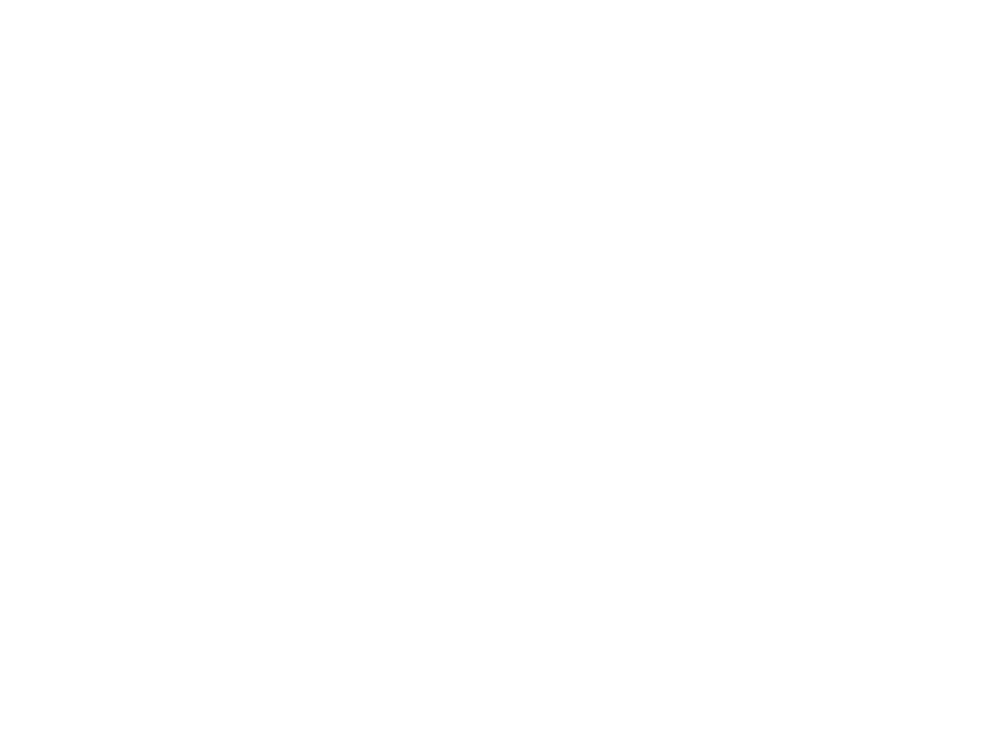
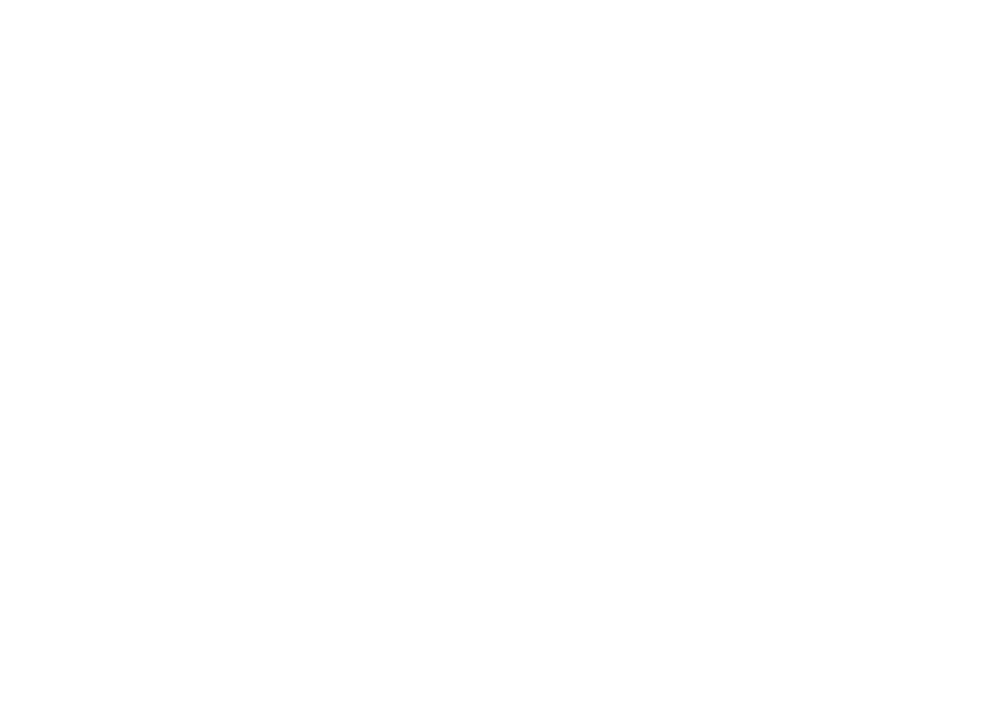
Ольга
«Мне было 10 лет. 1 мая демонстрация – все дети на ней. А потом, где-то 15-го, нас вывезли на море в Бердянск. А на солнце как раз и нельзя...
Потом мама где-то достала путевку и меня забрали в санаторий в Алупку.
Была проездом в Киеве. Дня два в июне. Звенящая тишина, город без детей, с молчаливыми взрослыми.
Это было очень страшно. До сих пор помню».
Потом мама где-то достала путевку и меня забрали в санаторий в Алупку.
Была проездом в Киеве. Дня два в июне. Звенящая тишина, город без детей, с молчаливыми взрослыми.
Это было очень страшно. До сих пор помню».
Татьяна
«Мне было 9 лет. Ходили в школу, потом 1 мая поехали на дачу. Было жарко, все раздеты, загорали – целый день на природе, многие на демонстрации.
3 и 4 мая в Киеве велогонка, какой-то этап, все вышли на улицу смотреть, было уже холодно и очень сильный ветер.
5 и 6 в школе. Говорят закрывать форточки, на улице не гулять.
Родители пытаются взять билеты. С трудом дедушка-инвалид ВОВ берет билеты в Москву на 09.01 и мы с бабушкой уезжаем к родственникам. Родители остаются в Киеве. Школу вывезли только 15 мая на море на три месяца.
На даче этим летом все росло очень интенсивно. Отец с дедом снимали верхний слой земли и вывозили».
3 и 4 мая в Киеве велогонка, какой-то этап, все вышли на улицу смотреть, было уже холодно и очень сильный ветер.
5 и 6 в школе. Говорят закрывать форточки, на улице не гулять.
Родители пытаются взять билеты. С трудом дедушка-инвалид ВОВ берет билеты в Москву на 09.01 и мы с бабушкой уезжаем к родственникам. Родители остаются в Киеве. Школу вывезли только 15 мая на море на три месяца.
На даче этим летом все росло очень интенсивно. Отец с дедом снимали верхний слой земли и вывозили».
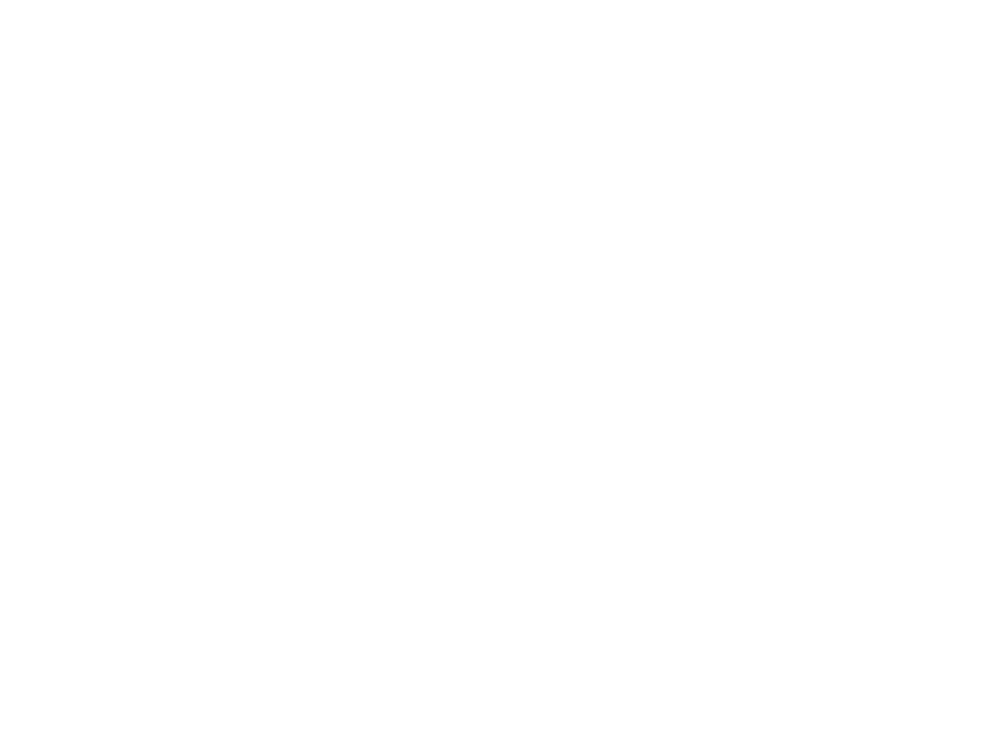
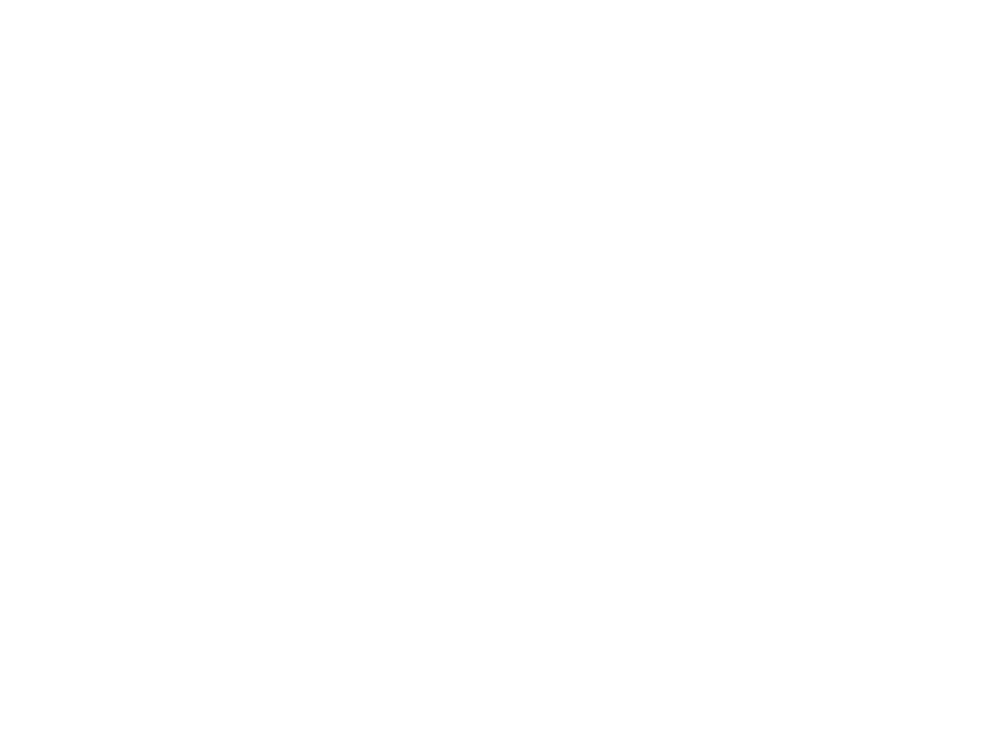
Марина
«Мне было 7 лет. Выросла в регионе, пострадавшем от Чернобыльской аварии (Тульская область). На лето отправляли к бабушке в другую Чернобыльскую зону (Орловская область), там уже было с правом на отселение.
Помню, что грибы нельзя было есть, вот это да.
Еще у нас детей вывозили за границу, были льготы какие-то (в школе витаминки давали, у взрослых – дополнительный отпуск, назывался «чернобыльская неделя»). Часто проверяли щитовидку в школе.
По удостоверениям жителя Чернобыльской зоны можно было в Питере бесплатно ездить на метро. Еще куча льгот каких-то была, но уже не помню.
А вот рост онкологических заболеваний в регионе был, да. У меня много родственников умерли именно от онкологии».
Помню, что грибы нельзя было есть, вот это да.
Еще у нас детей вывозили за границу, были льготы какие-то (в школе витаминки давали, у взрослых – дополнительный отпуск, назывался «чернобыльская неделя»). Часто проверяли щитовидку в школе.
По удостоверениям жителя Чернобыльской зоны можно было в Питере бесплатно ездить на метро. Еще куча льгот каких-то была, но уже не помню.
А вот рост онкологических заболеваний в регионе был, да. У меня много родственников умерли именно от онкологии».
Лидия
«Для меня Чернобыль – не страшилки, а реально часть моей жизни. Очень страшно.
Я из Беларуси. В районе нашем деньги платили жителям деревень, где было до пяти кюри на квадратный километр. Эти деньги называли в народе «гробовыми».
Ничего молочного мы не ели с полгода, и потом с ограничениями. Из леса ни грибов, ни ягод. Соль йодированную стали употреблять именно тогда.
И специальный центр диагностики у нас в городе был. Хороший человек и врач его сумел «пробить» на всех уровнях. Нет его уже в живых, царство ему небесное, многим людям он помог и племянникам моим в, том числе.
А так из того что помню... Рекомендовалось в целом есть больше граната и пить сока из него, грецкие орехи. В лес не ходить и ничего там собранного не покупать.
До сих пор помню, как умирала соседская девочка Сашка, у нее было заболевание крови, потому что ее мать беременной работала матросом на реке Припять, и как раз попала в том апреле в рейсе под Чернобыль. Страшно это всё».
Я из Беларуси. В районе нашем деньги платили жителям деревень, где было до пяти кюри на квадратный километр. Эти деньги называли в народе «гробовыми».
Ничего молочного мы не ели с полгода, и потом с ограничениями. Из леса ни грибов, ни ягод. Соль йодированную стали употреблять именно тогда.
И специальный центр диагностики у нас в городе был. Хороший человек и врач его сумел «пробить» на всех уровнях. Нет его уже в живых, царство ему небесное, многим людям он помог и племянникам моим в, том числе.
А так из того что помню... Рекомендовалось в целом есть больше граната и пить сока из него, грецкие орехи. В лес не ходить и ничего там собранного не покупать.
До сих пор помню, как умирала соседская девочка Сашка, у нее было заболевание крови, потому что ее мать беременной работала матросом на реке Припять, и как раз попала в том апреле в рейсе под Чернобыль. Страшно это всё».
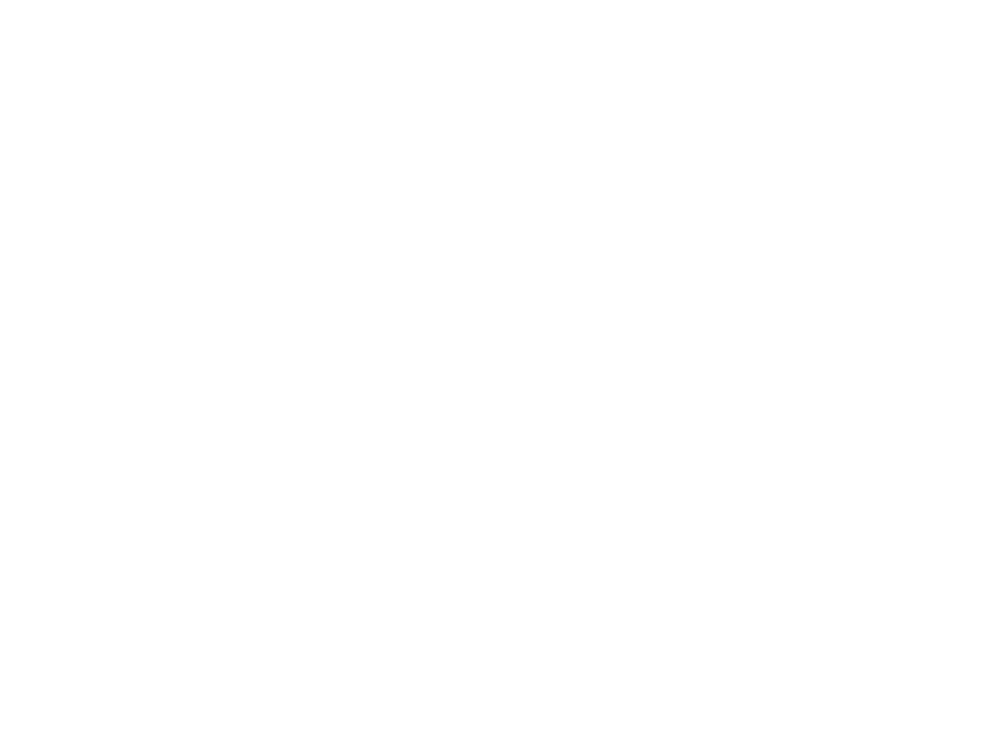
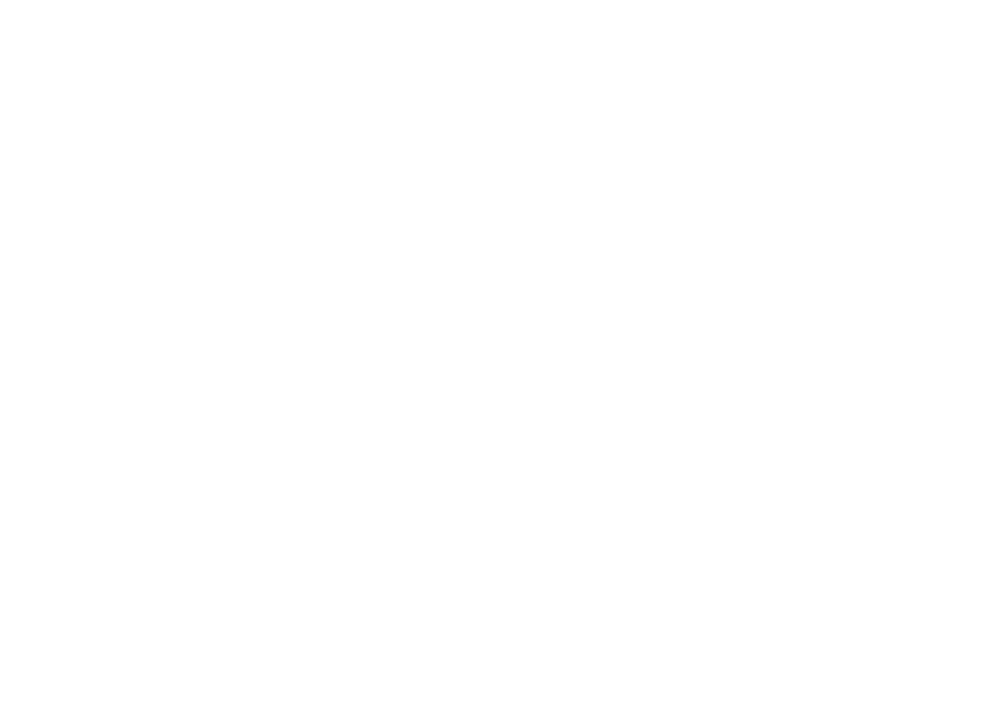
Катерина
«Рядом с моим домом в Москве была больница, куда привозили из Чернобыля. Мне 4 года было – не помню, а муж помнит тишину и огромные гробы.
Я помню, что старались по той стороне улицы, где забор больницы, не ходить лишний раз. Хотя зданий больницы почти не было видно – сплошные деревья.
Больница несколько лет не работала, говорили, что полностью штукатурку снимали, фонило все. Но это уже уровень слухов.
А вот полный сюр – за забором всегда никого и тишина полная, хотя вокруг много институтов разной степени вредности. Там тоже тихо было, но все-таки знали, кто там работал из знакомых, что делали, а тут прям Припять в миниатюре».
Я помню, что старались по той стороне улицы, где забор больницы, не ходить лишний раз. Хотя зданий больницы почти не было видно – сплошные деревья.
Больница несколько лет не работала, говорили, что полностью штукатурку снимали, фонило все. Но это уже уровень слухов.
А вот полный сюр – за забором всегда никого и тишина полная, хотя вокруг много институтов разной степени вредности. Там тоже тихо было, но все-таки знали, кто там работал из знакомых, что делали, а тут прям Припять в миниатюре».
Татьяна
«Колобок-колобок — я не колобок, я чернобыльский ёжик...
Не хочется вспоминать, если честно. У меня муж – ликвидатор. Годы рождения детей так вспоминаю: чернобыльская авария случилась в год, когда родилась младшая, значит старшая с 85-го. У меня с датами не очень.
Страшилок как-то не помню. На самом деле очень страшно было. Того немногого, что знали, хватало для сильного страха».
Не хочется вспоминать, если честно. У меня муж – ликвидатор. Годы рождения детей так вспоминаю: чернобыльская авария случилась в год, когда родилась младшая, значит старшая с 85-го. У меня с датами не очень.
Страшилок как-то не помню. На самом деле очень страшно было. Того немногого, что знали, хватало для сильного страха».
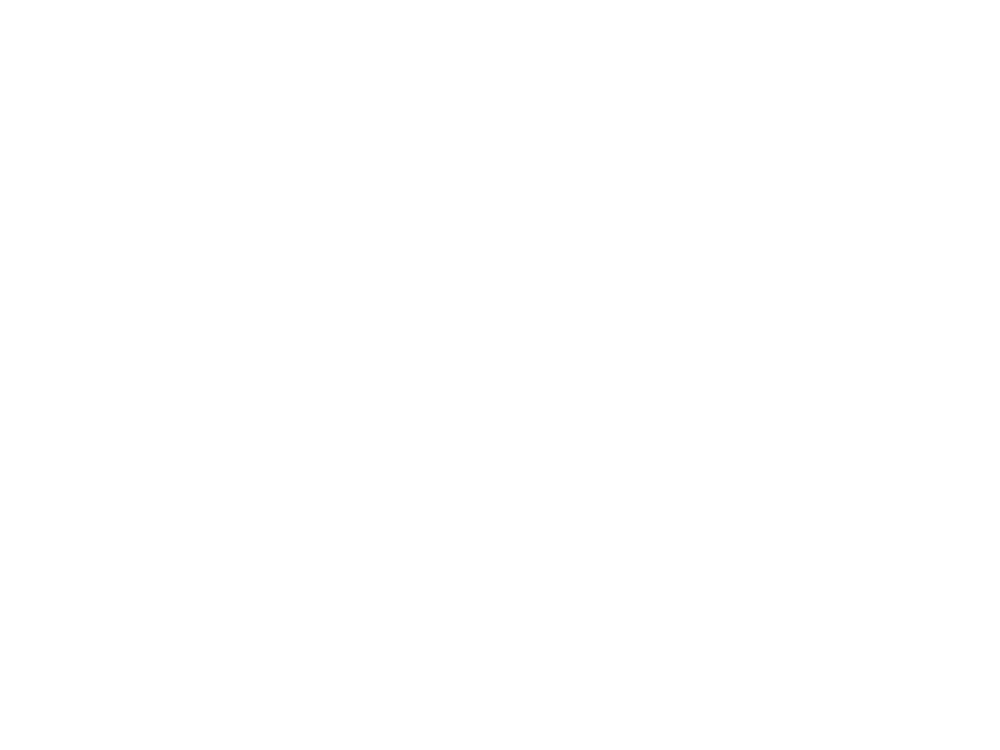
Текст: Янина Мельникова
Фото: "Страница путешественника", https://uritsk.livejournal.com/234614.html
Фото: "Страница путешественника", https://uritsk.livejournal.com/234614.html
Вернуться на главную
Шлях можа быць іншым